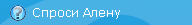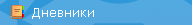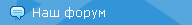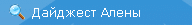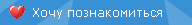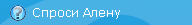



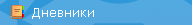
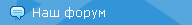
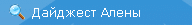
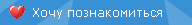




 




| Случайный анекдот: | Из новостей. Вчера на нудистском пляже прошел показ мод. |
|
|
Сегодня на сайте 1153 биографий
 | |  |
Биографии. История жизни великих людейНа этой странице вы можете узнать много интересного о жизни великих людей, познакомиться с их творчеством. Жизнь замечательных людей. Биографии. Истории жизни. Интересные факты из жизни писателей и артистов. ЖЗЛ. Биографии сопровождаются фотографиями. Любовные истории писателей, музыкантов и политиков. Факты из биографий. Выберете биографию в окне поиска или по алфавиту. Биографии дополнены рубрикой "творчество". Вы можете послушать произведения авторов в формате mp3.
НАЗАД
Руссо Жан Жак

Руссо Жан Жак
28 июня 1712 года — 2 июля 1778 года
Биография
Жан-Жак Руссо родился в Швейцарии, в Женеве, и происходил из буржуазной протестантской семьи, предки которой переселились из Парижа в XVI веке, в эпоху религиозных гонений во Франции и торжества кальвинизма в Женеве. Громадное большинство граждан этого маленького городка, сделавшегося на долгое время Римом кальвинизма, составляли и поныне составляют потомки подобных же переселенцев из Франции. В начале XIX века перепись граждан Женевы констатировала всего лишь пятьдесят женевских фамилий, принадлежавших Женеве до XVI века. Остальные были французскими выходцами, оставившими отечество в борьбе за новые религиозные идеи.
Такой состав женевского населения наложил особый отпечаток на весь склад жизни города и кантона. Страстная преданность протестантизму, повышенное чувство религиозности, строгие нравы, предписанные кальвинизмом, уживались с наследственной любовью к свободе, нервным, даже беспокойным характером, постоянной заботой о личной независимости... Эти общие черты нервной организации и нравов женевского населения резко выделялись в XVIII веке среди совершенно иного склада жизни и нравов, господствовавших в смежных странах: во Франции, в Италии, в Германии. Подобное различие не могло не отразиться на женевцах, усиливая все их естественные черты, до пределов развивая их особенности. Из такой среды произошел, в таком обществе вырос, под такими влияниями воспитывался Жан-Жак, и даже беглый взгляд на его характер и наклонности обрисовывает перед нами типического представителя этой среды, этого общества и этих влияний - личность, развившую до крайней степени душевные контрасты своих сограждан. То чувствительный, то суровый; то доверчивый, то подозрительный; то веселый, то меланхолический; то идеальный, то чувственный; с болезненным самолюбием, глубоко религиозный, глубоко скептический, способный и на самоотвержение, и на всякое сумасбродство, страстный во всех своих идеях и чувствах, Руссо был результатом длинной эволюции женевского типа, его плодом и его последним могучим итогом и выражением. История родного города воплотилась в Руссо со всеми своими светлыми и теневыми сторонами, со всеми своими заслугами и всей своей виной перед человечеством. В начале XVIII века недавно только завершилась историческая роль Женевы, но город тем более был полон старых традиций и новых общественных плодов. В артериях и венах женевцев текла кровь, наследственно проникнутая душевными контрастами. Вызывающая гордость, свойственная защитникам "святого" дела, соседствовала с кроткой любовью к человечеству, отличающей проповедников этого дела; беспокойная, даже буйная организация наследственных борцов за вольности - с подавленностью душевного состояния последователей сурового и строгого кальвинизма; религиозность, наполнявшая собою всю жизнь многих поколений,- со скептицизмом, вооружившим эти поколения против католицизма... Подобная нервная организация, развитая долгой сознательной историей и осложненная вышенамеченными обстоятельствами, контрастами и тягостями этой истории, была коренной особенностью женевца XVIII века. "Я не был бы женевцем,- замечает в одном месте "Исповеди" сам Руссо,- если бы бродяжничество не предпочел всем благам оседлой жизни", а в начале XIX века французская статистика констатировала, что среди всех департаментов Франции (тогда Женева входила в состав империи Наполеона I) Женева отличается особенно большим процентом душевных заболеваний!
Эта повышенная нервность и это сплетение душевных контрастов, составлявшие общий характер женевского общества начала XVIII века, были наследованы в полной мере Жан-Жаком, который как великий гениальный женевец, родившийся около этого времени, естественно должен был воплотить в себе все эти черты, всю эту длинную эволюцию, вырабатывавшую своими могучими условиями и влияниями физиологическую и психологическую организацию небольшой замкнутой группы населения. Таким и предстает перед нами Руссо. Фамильные условия, насколько они нам известны, должны были только усилить эту тенденцию. Я уже упомянул, что фамилия Руссо происходила от парижских эмигрантов, переселившихся в Женеву в XVI веке, в эпоху религиозных гонений. Фамилия повторяла, таким образом, историю большинства женевских фамилий. Она должна была обладать и типичными свойствами женевцев. Существуют данные, указывающие, что она обладала этими свойствами в избытке, в размере выше среднего. Отец Жан-Жака, Исаак Руссо, провел значительную часть жизни в странствиях. В молодости, в 1699 году, он судился за ссору, перешедшую в вооруженное столкновение, и был приговорен. То же повторяется в 1722 году. Суровый приговор заставляет его даже оставить отечество. О его странных, полных противоречий отношениях к сыну буду говорить ниже. Мать Жан-Жака, Сюзанна Бернар, красивая и кокетливая женщина, имела в молодости романическую историю, очень мало соответствующую строгим правилам кальвинистов, особенно если принять во внимание, что отец Сюзанны был священником. Родной брат ее тоже имел подобную же историю, за которую даже судился. Две тетки Жан-Жака были оштрафованы по суду за карточную игру в публичном месте в воскресенье. Вооруженные столкновения, романические приключения, карточная игра - конечно, все это не очень много, но не для кальвинистской Женевы конца XVII и начала XVIII века. Здесь это были важные и существенные отклонения от господствующих нравов, обнаруживавшие значительное переразвитие той нервности, которая составляла общую особенность женевского населения. Существуют факты еще более яркие. Двоюродный брат Жан-Жака был помешанным. Его родной брат, Франсуа Руссо, отличался буйным характером, оставил в юности Женеву и пропал без вести. Сам Жан-Жак Руссо, страдавший невралгией, замечает в одном письме, что болезнь эта наследственная в его семье. Вот на такой почве расовой и фамильной наследственности, отягченной повышенной нервностью и патологическими осложнениями этой нервности, явился на свет Божий в Женеве 2 июня 1712 года Жан-Жак Руссо. Его мать заплатила жизнью за рождение сына - этой будущей славы родного города. Мать умерла, конечно, не от здоровья, и ребенок родился слабый и болезненный. Он был без сознания, полумертвый, и только самоотверженному уходу своей тетки он обязан тем, что перенес и пережил эти первые дни своего хрупкого существования.
Первые десять лет жизни Жан-Жак провел в доме отца, на руках отца и тетки, молодой девушки, к которой он сохранил на всю жизнь самые теплые чувства. Добрая девушка как умела ухаживала за племянником, наблюдала за его здоровьем, охраняла от последствий его слабого и болезненного сложения. Ее нежные заботы запечатлелись в чувствительном сердце ребенка и, быть может, еще более содействовали развитию этой чувствительности. Ее безыскусственные песни Руссо со слезами на глазах напевал и в последние годы своей жизни. Немногое могла дать эта девушка своему питомцу, но это немногое было: доброе сердце, справедливость, народная поэзия, музыкальные напевы. Non multa, sed multum. [Не много, но многое (лат.).] И доброе семя пало на добрую почву любящей, нежной, восприимчивой натуры. Кто может сказать, когда, где проросло оно и каким пышным цветом расцвело в знаменитой жизни славного Жан-Жака? К сожалению, при всем желании не противоречить мнению великого сына, нельзя того же сказать о последствиях влияния отца, беспокойного и беспорядочного Исаака Руссо.
По профессии часовщик (как большинство женевцев его времени), а порою и танцмейстер, Исаак Руссо был по утрам, до обеда, занят своим ремеслом. В это время сын оставался с теткой. Послеобеденное время Жан-Жак проводил с отцом. С чувством признательности вспоминает он эти часы. Беспечный, увлекающийся Исаак страстно любил чтение и скоро приучил и маленького шести-семилетнего сына к этому занятию, наполнявшему его вечера. С самого раннего возраста, с каких пор Жан-Жак только помнит себя, отец уже приобщил его к своим чтениям, а когда мальчик научился читать, то к нему перешла и обязанность чтения вслух. Читались сначала исключительно романы, те фантастические, романтические романы, которые только и существовали в литературе того времени. Исаак и Жан-Жак, пожилой отец и младенец-сын, проводили целые ночи напролет в этом мире грез. Зачастую только утренний свет останавливал это очарованное чтение, этот гипнотический сон под влиянием необузданных фантазий средневекового романтического или восточного сказочного творчества. И пробужденный от этого гипноза пением петуха или бледнеющим светом лампы сконфуженный пожилой мечтатель нередко восклицал: "Идем спать, я, право, более ребенок, чем ты!" Когда запас романов, предлагавшихся тогдашней литературой, истощился, отец и сын перешли к истории и биографиям. Плутарх оставил особенно глубокий след на впечатлительной душе Жан-Жака. Влияние этого преждевременного, беспорядочного, отнюдь не детского чтения не могло не отразиться весьма серьезно на Руссо. Если оно заронило в его душу семена творческой фантазии, заложило потребность в умственной деятельности, стремление к легендарным доблестям древних героев, то, с другой стороны, донельзя повысило и без того чрезвычайную чувствительность, дало сильный толчок развитию невротических явлений и надолго спутало в молодой душе фантазии с действительностью. "Я не имел никакого понятия о реальных предметах,- пишет сам Руссо,- но все чувства уже были мне знакомы. Все доходило до меня, но не путем размышления, а путем фантазии". Надо было иметь гений Руссо, чтобы выйти победителем из этого испытания, способного совершенно обессилить и извратить более слабый ум! Но и на последующие нервные и душевные страдания Руссо эти беспутные уроки раннего детства оказали, конечно, свое пагубное влияние.
Исаак Руссо был человек беспечный и беспорядочный и, как все такие люди, пренебрегал воспитанием сына, который если рос добрым ребенком, то единственно вследствие собственной доброй природы и под влиянием доброй тетки. Эта небрежность отца и эта слабость его, так ярко выразившиеся в факте всенощных чтений, не мешали ему быть очень взбалмошным и подчас несправедливым к ребенку. Существуют данные, доказывающие, что слабый надзор Исаака Руссо переходил порой в свою противоположность, и небрежность сменялась вниманием, которое было не всегда кстати. Между прочим приведем случай, когда бедный ребенок за разорванную книгу был заперт на несколько дней на чердаке. Этот случай рассказан кормилицей Жан-Жака. Сам он в своих "Confessions" передает, как однажды отец подвергал жестокому телесному наказанию старшего сына своего, Франсуа. Потрясенный воплями брата маленький Жан-Жак бросился и прикрыл собою наказываемого, но отец продолжал наказание, сильно избив таким образом бедного любящего мальчика. Если этот эпизод обрисовывает благородное, отзывчивое сердце маленького сына, то вместе с тем и взбалмошный, беспорядочный характер пожилого отца. Жан-Жаку был одиннадцатый год, когда его отец должен был оставить Женеву. Исаак Руссо переселился в Нион, местечко в Водуазском кантоне, оставив Жан-Жака у шурина Бернара. Старший сын, Франсуа, в это время уже скрылся из Женевы.
У дяди Бернара прожил в этот раз Жан-Жак недолго. Вместе со своим сверстником-кузеном он был вскоре отдан в пансион для мальчиков, содержавшийся священником Ламберсье невдалеке от Женевы, в деревушке Боссе. Здесь он пробыл около двух лет, и здесь же впервые начинает вырисовываться строй души мальчика, его добрые, даже великие достоинства так же, как и те патологические расстройства, которые потом внесли столько горечи и скорби в его жизнь. Росший до этого времени в городе, Руссо здесь, в Боссе, впервые прикоснулся к природе, и впечатлительная, отзывчивая душа его открылась навстречу красотам и чарам ее, вступила с нею в то тесное сердечное общение, которое затем подарило человечеству непревзойденные страницы его творений. В столь же трогательных, сколь и художественных картинах рисует нам Руссо в "Confessions" эти свои первые нежные свидания с природой, свои игры, занятия садоводством, наблюдения, чувства, навеваемые деревней... Деревня и природа навсегда остались самыми дорогими привязанностями Руссо, и кто знает, эти симпатии, заложенные общением детской души и деревенской природы, не отразились ли на самих идеях Руссо, не усилили ли его отвращение к цивилизации, не подсказали ли ему мысль искать для нее лекарства в безыскусственных условиях, создаваемых природою без участия культуры?
Дружба с кузеном была вторым важным элементом жизни в Боссе. До этого времени Жан-Жак не общался со сверстниками. Он рос одиноким в обществе взрослых, в фантастическом мире романов и биографий. Он не мог быть ребенком - ни испытывать детские чувства, ни предаваться детским играм и занятиям. Боссе, его природа и дружба двоюродного брата дали Жан-Жаку радости детства. "Около тридцати лет миновало,- пишет Руссо в "Confessions",- с тех пор, как я оставил Боссе, ни разу потом не столкнувшись в своей жизни с чем-либо, что могло бы мне напомнить это время. Но теперь, когда, переступая через зрелый возраст, я уже начинаю склоняться к старости, я чувствую, как возрождаются во мне эти воспоминания, и в то время как все остальные постепенно слабеют, эти вырисовываются в моей памяти с силой, все растущей, и очарованием, все усиливающимся. Кажется, будто, чувствуя обмеление потока жизни, я ищу его обновить и поддержать силами его истоков". Нежные и разумные заботы главной воспитательницы пансиона, m-lle Ламберсье, образованной девушки, сестры священника, и систематическое образование, даваемое мальчику под руководством самого Ламберсье, человека высоких достоинств и обширных знаний, должны быть тут тоже упомянуты в числе благоприятных сторон этого периода жизни Жан-Жака, который ни до этих двух лет, ни после никакого систематического обучения не получал и был лишен попечения образованной женщины.
Конец этого пребывания в пансионе Ламберсье ознаменовался событием, произведшим глубокое впечатление на нервную и чувствительную природу Руссо. Его несправедливо обвинили в поломке некоторых предметов туалета m-lle Ламберсье. Ни он, ни его двоюродный брат не были в этом виноваты. Они решительно отрицали свою виновность, но внешнее стечение обстоятельств свидетельствовало об обратном. Их запирательство побудило Ламберсье вызвать в Боссе Бернара. Улики были против них, и Бернар решил добиться признания. Самое жестокое наказание не могло, однако, вынудить к нему Жан-Жака. "Невозможно было,- пишет Руссо,- вырвать у меня признание, которого добивались. Несколько раз возобновлялось наказание, я приведен был в самое ужасное состояние, но я оставался непоколебимым. Я готов был скорее умереть, чем удовлетворить несправедливое требование. Сила должна была наконец уступить дьявольскому упрямству ребенка, как называли они эту твердость. Истерзанным вышел я из этого испытания, но восторжествовавшим". Сознание вопиющей несправедливости и грубого насилия оставило глубокий, неизгладимый след в душе тринадцатилетнего мальчика. Заканчивая рассказ об этом эпизоде, Руссо прибавляет: "Набрасывая эти строки, я чувствую и теперь еще, как повышается биение пульса. Эти минуты никогда не забудутся мною, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Это первое чувство несправедливого насилия так запечатлелось в душе моей, что всякая мысль, имеющая отношение к несправедливости и насилию, пробуждает во мне те же пережитые и незабываемые чувства. И это чувство, первоначально имевшее непосредственное отношение к моим личным страданиям, так глубоко внедрилось в мою душу, так окрепло, так высвободилось от всего личного, что сердце мое воспламеняется при виде всякой несправедливости, где бы она ни совершалась, с такой же силой, как если бы я лично страдал от нее. Когда я вижу петуха, корову, собаку, терзающих других животных только потому, что они сильнее, я не могу удержаться, чтобы не вмешаться и не защитить терзаемого, преследуя мучителя иногда до полного изнеможения. Возможно, что чувство это мне свойственно от природы, но глубоко запавшее в душу воспоминание о великой несправедливости, мною перенесенной, было слишком долго и слишком сильно с ним связано, чтобы не отразиться на всех моих чувствах и на развитии и усилении особенно этого чувства отвращения к несправедливости и насилию". Подлинно, можно сказать с Пушкиным: "Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат!" И беспутное чтение романов, и ласки деревенской природы, и нежные заботы m-lle Ламберсье, и дружба кузена, и само несправедливое наказание - все переработалось богато одаренной натурой, все помогало формировать тот характер и те идеи, которые отвечали великому призванию Жан-Жака Руссо.
Вскоре после рассказанного эпизода Жан-Жака и его двоюродного брата взяли из пансиона Ламберсье и поселили в Женеве, у дяди Бернара. Прежде, однако, чем проститься окончательно с этим пансионом, надо упомянуть еще об одном эпизоде. Рассказанное до сих пор обрисовало перед нами симпатичный образ любящего, отзывчивого, богато одаренного мальчика, жадно поглощающего все благое, что давала жизнь и природа, торжествующего над самим злом, обращая его в поучение и во благо. Теперь мы коснемся случая, обнаружившего уже в это раннее время симптомы патологические. В те времена, к которым относится наше повествование, то есть в 1722-1724 годах, свыше полутораста лет тому назад, телесное наказание было общепринято в школах. Применялось оно и в пансионе Ламберсье, где сама m-lle Ламберсье наказывала виновных школьников. Дважды пришлось и Жан-Жаку перенести подобное наказание от нежно любимой им воспитательницы. Руссо отмечает в своих воспоминаниях, что это наказание (по его свидетельству, всегда заслуженное и снисходительное) доставляло ему удовольствие. Он готов бы был преднамеренно искать наказания, если бы не боязнь огорчить m-lle Ламберсье, которая прибегала к нему лишь очень рассерженная и огорченная. Вскоре по оставлении пансиона Жан-Жак познакомился в Женеве с четырнадцатилетней девицей Готон, по-видимому многое успевшей испытать в детстве. Они играли с ней в школу, и мальчик изображал школьника, а девочка - начальницу школы, причем нередко эта воображаемая начальница подвергала своего ученика общепринятому наказанию, и добровольно принимаемая, желаемая розга подруги доставляла ему то же удовольствие, что ранее он испытывал во время наказания на коленях у девицы Ламберсье. Сообщая об этих постыдных эпизодах своего отрочества, Руссо сам отмечает их ненормальность и полагает, что они надолго извратили его чувства к женщинам, отразившись на всей его жизни. Ненормальность, даже прямо психопатичность упомянутых чувств и поступков несомненна, но, конечно, не розга девицы Ламберсье породила эти патологические явления. Она, эта розга, могла, однако, пробудить дремавшие инстинкты, пробудить и усилить. Почва же, несомненно, лежала в природной организации. Пребывание в Боссе показывает нам и богатые силы этой организации, и первые узоры наследственной душевной болезни. Около двух лет пробыл Жан-Жак у дяди Бернара без всяких определенных занятий и дела. Двоюродный брат его готовился в инженеры. За компанию с ним и Руссо кое-чему научился, но тому, что ему приходилось по вкусу, именно геометрии и рисованию. Свободного времени у него было очень много, обязательного дела никакого, а на улице в том благословенном климате так много всего: солнце, небесная синева, веселое журчание Роны, гладкая лазурь обширного озера, окруженного зеленой рамкой гор, увенчанных белой короной вечных снегов! Сам исполин Монблан сверкает своей вершиной счастливым обитателям Женевы. Немудрено, если Жан-Жак проводил большую часть дня на этой веселой улице. Это понятно, но непонятно, почему уличная жизнь не испортила его. Эпизод с девицей Готон показывает одну из тех опасностей, которым подвергался впечатлительный мальчик с пылким темпераментом и невротической наследственностью в крови, предоставленный самому себе и слепому случаю. Эта игра слепого случая ставила дважды Жан-Жака в положение еще более опасное. Однажды, играя на отдаленной от дядиного дома улице со случайным знакомым, таким же свободным от занятий, надзора и попечений мальчуганом, Жан-Жак поссорился с ним, и драчливый товарищ ударил его по голове с такой силой, что Руссо упал на землю, обливаясь кровью, с проломленным черепом. Испуг драчуна, его слезы и просьбы тронули чувствительного Жан-Жака, который был отведен к матери виновного. Ее компрессы и повязки остановили кровь и кое-как поддержали его силы настолько, что он смог доплестись до дому. Здесь он приписал свою рану неловкому падению, совершенно выгородив случайного товарища уличных игр. Аналогичный случай приключился с Жан-Жаком, когда он зашел в одну мастерскую, где из шалости один мальчик раздробил ему барабаном пальцы левой руки. Раскаяние шалуна заставило Жан-Жака и тут скрыть истинную причину полученного им увечья, приписав его собственной неосторожности. Руссо долго не владел левой рукой, пальцы которой остались навсегда несколько поврежденными. По счастью, это была не правая рука, которой предстояло написать шедевры всемирной литературы.
Среди таких-то опасностей, безделья, беспечной праздности и разнообразных впечатлений провел Руссо два года у дяди Бернара. Следует еще отметить, пожалуй, его идеальное, но страстное увлечение девицей Вюльсон, молодой девушкой старше его лет на десять. Замечательно, что это романтическое увлечение было современно другому увлечению, носившему отнюдь не идеальный и не романтический характер: четырнадцатилетнею девицей Готон. По этому поводу Руссо замечает: "Я знаю два рода любви, два совершенно различных способа любить, глубоко захватывающих меня и не имеющих ничего общего ни между собой, ни с чувством нежной дружбы. В течение всей моей жизни я колебался между этими двумя столь несовместимыми чувствами любви. Порою я их испытывал одновременно". Так здоровое чувство благородной натуры боролось в нем с проявлениями патологической наследственности и влияниями беспутного воспитания! Время, однако, шло. Жан-Жаку пошел шестнадцатый год. Надо было выбирать род жизни. В конторе нотариуса Массерона, куда он был определен клерком, его нашли неспособным, после чего решено было сделать его гравером. В Женеве, где на стольких часах нужно гравировать столько вензелей, гербов, всяких украшений, гравировальное ремесло очень распространено. Жан-Жак был определен к мастеру Дюкоммену учеником и пробыл у него около года. Это пребывание - очень печальный эпизод в жизни Руссо. Мастер отличался жестокостью, жадностью, корыстолюбием. Учеников кое-как кормили, заставляли много работать, жестоко наказывали. Естественно, если ученики на недоедание за обедом отвечали воровством съестного; на принуждение к чрезвычайному труду - леностью и небрежностью; на наказание - ложью и всяческими хитростями, лишь бы обмануть ненавистного им хозяина. Мало-помалу и Руссо был вовлечен во все эти неизбежные пороки, к коим побуждали ежовые рукавицы мелкого, но свирепого тирана. Кончилась эта неравная борьба тем, что в одно прекрасное весеннее утро Жан-Жак бежал от Дюкоммена и, по примеру своего старшего брата Франсуа, оставил Женеву. Это было 14 марта 1728 года; юному беглецу было без малого (без трех месяцев) шестнадцать лет. Нервный темперамент и независимый характер находят в этой решимости новое яркое выражение.
Дня два странствовал беглец по Женевскому кантону, находя гостеприимство у крестьян, после чего перешел границу отечества и очутился в Конфиньоне, пограничной савойской деревушке. Католический священник этой деревушки, старик Понвер, радушно принял симпатичного еретика. Конечно, следовало уговорить юношу возвратиться, следовало дать знать отцу. Но ведь это означало отослать юношу на лоно ереси! Заботы о спасении души Жан-Жака побудили Понвера отослать его в противоположную сторону. Он направил его в глубь Савойи, в городок Аннеси, к баронессе Луизе-Элеоноре Варанс, которая должна была содействовать обращению молодого еретика в правоверного католика. Престарелый патер не мог выбрать для этого способа лучше, но вместе с тем его выбор был решительным в жизни Руссо. Баронесса Варанс - самая продолжительная и, пожалуй, единственная серьезная любовь Руссо, и отношения между ними наполняют большую и лучшую часть жизни великого писателя.
Луиза-Элеонора де ла Тур родилась в Веве 31 мая 1699 года. Через год она потеряла мать, а еще через пять лет (1705 год) ее отец, Жан-Батист де ла Тур, один из сеньоров Водуазского кантона, привел в дом мачеху, молодую французскую гугенотку. В 1709 году умер отец, и десятилетняя Луиза была помещена в пансион г-на Монви в Лозанне. Четырнадцати лет, в 1713 году, она вышла замуж за Себастьяна Исаака де Луа, сеньора де Вильярдена, барона де Варанс. Детство ее было печально, полно утрат, лишено материнской заботы. Серьезный, вечно занятый политическими и общественными делами муж не дал ей утешения. Детей не было. Не удивительно, если молодая женщина, отличавшаяся страстным темпераментом и обаятельно-красивой наружностью, не удержалась на стезе строгой добродетели. К тому же она выработала своеобразный взгляд на женскую добродетель. Любовную связь она не считала преступлением и находила, что не великодушно мучить хорошего человека, отказывая ему в любви. Это не мешало ей обладать замечательно отзывчивым, великодушным сердцем, готовностью пойти на помощь всякому нуждающемуся и тонким, острым умом. При красивой наружности и литературном развитии все это делало ее женщиной в полном смысле слова обаятельной. В 1726 году она бросила мужа, оставила Швейцарию и, приняв католичество, поселилась в Савойе, в Аннеси. Лишенная за это своего оставленного на родине имущества, она получила небольшую пенсию от Сардинского короля Виктора Амедея, на которую и существовала в маленьком савойском городке. Сюда-то 21 марта 1728 года явился к ней Жан-Жак Руссо с письмом от конфиньонского священника. Тогда ей было без малого двадцать девять лет и она была в полном расцвете красоты и сил. Немудрено, если эта прелестная, обаятельная дама произвела на пылкого романтического юношу чарующее впечатление, не изгладившееся до могилы. Красивый и симпатичный Жан-Жак Руссо тоже понравился молодой баронессе, но прежде всего следовало подумать о спасении его души, погрязшей в нечестии кальвинистской ереси!.. Для этого надо было отправить его в Турин, где существовало для подобных целей специальное учреждение. 24 марта, снабженный всем необходимым и в сопровождении пожилых опытных спутников, провожаемый благословениями очаровательной покровительницы, Руссо отправился пешком через Альпы в Турин. Чувство природы, которое было так живо в душе Руссо, сделало из этого путешествия счастливый и памятный эпизод в его жизни, а литературе подарило несколько прекрасных страниц его мемуаров.
В Турине он был помещен в монастырь, специально занимавшийся обращением неверных еретиков. Около четырех месяцев пробыл Руссо в этом учреждении, обучаясь догматам католической религии. В конце лета состоялось торжественное обращение, и снабженный небольшой суммой в 20 франков, собранных по подписке, новообращенный шестнадцатилетний католик был выпущен на улицы Турина, предоставленный собственной участи. Сначала он попробовал применить к делу свои несовершенные познания в граверном ремесле. Одна молоденькая и красивая лавочница, по фамилии Базиль, более плененная симпатичной наружностью и открытым, доверчивым сердцем юноши, нежели его искусством, предоставила ему некоторые работы в лавке своего отсутствующего мужа. Однако это не понравилось возвратившемуся вскоре супругу, и Жан-Жак был выпровожен из лавки, снова оставленный без работы и лишенный ласкового внимания красивой итальянки.
Необходимость добывать кусок хлеба и недавняя неудача заставили нашего мечтателя не побрезгать местом прислуги в доме графини Верселис, гордой и влиятельной аристократки. Престарелая графиня была очень больна, но не оставляла своей обширной политической и литературной переписки. Сама она, однако, уже не могла писать, и литературно-грамотный Жан-Жак ей пришелся совершенно кстати. Он заменил ей домашнего секретаря, хотя и оставался в положении лакея. И месяца не пробыл Руссо на этом месте, как скончалась графиня, и слуги были распущены ее наследником. К этому времени относится один эпизод, известный нам единственно из "Исповеди" самого Руссо и составляющий несомненно самое темное приключение его жизни. Влюбчивому Жан-Жаку нравилась молодая девушка по имени Марион, одна из младших горничных графского дворца. Желая ей подарить что-нибудь и не имея для того средств, он прельстился розовой лентой, принадлежавшей старшей камеристке графини. Ленту он похитил, но передать Марион не успел, так как камеристка скоро заметила пропажу, наделала шума, и злополучная лента была найдена у молодого лакея, который, однако, в свое оправдание сказал, будто ленту эту ему подарила Марион. Возмущенная девушка все решительно отрицала, Жан-Жак настаивал, свидетелей не оказалось, дело осталось невыясненным. Лента была возвращена по принадлежности, а Марион и Жан-Жак были отпущены вместе с прочими слугами покойной графини. Так окончился этот эпизод, впоследствии причинивший Жан-Жаку много нравственных мучений, но явившийся довольно естественным плодом опытности, приобретенной в недавно оставленной им мастерской женевского гравера.
"Мне неизвестно,- прибавляет к своему рассказу об этом эпизоде Руссо,- что затем сталось с бедной жертвой моей клеветы. Едва ли после такого инцидента она могла без затруднений найти новое место. Она уносила с собой обвинение, во всех отношениях марающее ее честь. Сама кража была наименьшее в этом бесчестии. Это была, однако, кража с целью соблазнить молодого мальчишку. Наконец, ложь и запирательство дополняли тяжелую картину, не оставлявшую никакой надежды на исправление девушки, соединившей в себе столько пороков. Нищета и нужда, в которые могла ввергнуть Марион моя клевета, мне рисуются как естественное начало судьбы бедной девушки, а далее? Кто знает, куда в ее годы могло привести это незаслуженное унижение? И если сама мысль, что она может быть несчастна по моей вине, является для меня невыносимой, то гораздо тяжелее думать, что я своим гнусным поступком мог толкнуть ее на путь еще более недостойный. Это жестокое воспоминание меня часто смущает, и порою я вижу во сне бедную, невинную Марион: она приходит и упрекает меня за мое преступление, которое мне представляется так живо, как будто оно было совершено вчера. Покуда я жил спокойно, оно меня меньше мучило. Но среди бурной жизни оно отнимает у меня утешение, даваемое сознанием неправого гонения. Оно научило меня той истине, о которой я уже упоминал в других трудах, что раскаяние дремлет среди благополучного существования и со всею силою и болью пробуждается среди невзгод и лишений. Как ни тягостно было мне носить это осознание в своем сердце, я никогда не был в силах поверить его даже самому близкому другу, даже Варанс. Я мог сказать ей только, что чувствую за собой вину жестокого поступка, не будучи в силах сообщить его сущность. Эта тяжесть до сего дня лежала на моей совести. Желание исповедаться в ней и было одной из побудительных причин, по которым я решился написать эту исповедь".
Такими-то мучительно яркими красками рисовало пылкое воображение Руссо этот неприглядный эпизод его юности. Конечно, в значительной степени это была фантазия, продиктованная горячим чувством справедливости и жестоким раскаянием. В действительности все было гораздо проще. Граф де Ларок, племянник и наследник графини Верселис, лично разбирал это дело между двумя подростками. Не имея данных для обвинения того или другого, он отпустил обоих, сказав только, что "совесть виновного накажет его за невинного". Это говорит сам Руссо, а так как Марион ни в чем не обвиняла Руссо, а только оправдывалась, то слова графа показывают, что он скорее склонялся на сторону Марион. Прислуга, знавшая ее дольше, чем Жан-Жака, тоже была на ее стороне, как сообщает сам Руссо. Последствия для Марион, рисуемые Руссо, были фантазией, но последствия для Руссо были серьезнее. Стыд всего этого приключения излечил его от привычек, приобретенных у Дюкоммена. Он увидел, что мелкое воровство и ложь приводят иногда к очень тяжелым и постыдным положениям. У Дюкоммена же это было естественной и даже необходимой самообороной от свирепой тирании жадного хозяина.
Отпущенный после смерти графини Верселис Руссо скоро получил по рекомендации графа де Ларока место лакея у графа Гувона. Способности молодого слуги обратили внимание аббата Гувона, сына старого графа. Аббат взялся докончить его обучение, но не суждено было осуществиться и этой новой попытке дать Жан-Жаку систематическое образование. Неуравновешенный, недисциплинированный, неусидчивый характер Руссо был тому причиной. Должность лакея, конечно, мало говорила его уму и сердцу. Она ему наскучила, и он стал небрежно исполнять свои лакейские обязанности. Память о нежном внимании баронессы Варане, собственно говоря, никогда не покидала Жан-Жака и теперь проснулась с новой силой. Его влекло в Аннеси. Встреча с земляком-женевцем еще более отвратила его от Турина. Он совсем пренебрег своими обязанностями. Управляющий дворцом отказал ему. Попытка аббата Гувона уладить эту историю разбилась об упорство Руссо, который ответил, что, получив отказ, он не может возвратиться. С небольшим год он пробыл, таким образом, в Турине и осенью 1729 года уже снова предстал перед обожаемой Варанс. Удивленная и обрадованная, она расплакалась и воскликнула: "Теперь, когда Провидение мне вторично посылает этого милого мальчика, я больше не оставлю его". Руссо остался у Варанс, и здесь кончается первый период его жизни, бурный период его детства и отрочества. Мы подробно проследили этот период. Мы показали, как сначала у отца, у Ламберсье, у Бернара богато одаренная, пылкая, благородная природа мальчика боролась с неблагоприятными влияниями, жадно впитывая все доброе, глубоко чувствуя все злое. Маленький Жан-Жак вышел победителем из этих испытаний, хотя черты наследственной невропатии уже давали себя знать. Следующий затем период пребывания у гравера Дюкоммена и туринские скитания по лакейским пьемонтских аристократов легли мрачной тенью на жизнь Руссо. Пагубные условия пробудили низкие инстинкты, но и здесь в конце концов здоровые инстинкты взяли верх. Пятнадцатилетний мальчик оставляет школу порока и унижения у Дюкоммена и пробует взять свою судьбу в свои руки. Те же здоровые инстинкты пробуждаются в нем и в Турине и гонят его из лакейской милостивого графа Гувона. Под слоями грязи, наросшей в мастерской гравера, в лакейских графини Верселис и графа Гувона, скрывалась пылкая и благородная душа, жаждавшая правды, добра, жертвы. "В эту пору его жизни,- пишет лучший его биограф, Джон Морлей,- трудно бы было найти человека, который меньше его был бы способен возбудить симпатии к себе, вызвать участие к своей судьбе. Для этого надо было быть наблюдателем, глубоко изучившим тайные изгибы человеческого характера; надо было предугадать в этом скрытном, чувственном, неусидчивом и мечтательном мальчике те душевные силы, которые некогда разольют пламя по целому свету". Доброе, отзывчивое сердце Луизы Варанс постигло это "нечто" в юном Жан-Жаке,- нечто, столь малопостижимое мудрецами. Ей мир обязан сохранением этой хрупкой организации, которая могла бы и не выдержать, если бы нежная привязанность прелестной женщины не дала отдыха измученному юноше и не приготовила его к новым, еще более тяжелым испытаниям.
С 1729 по 1740 год, с небольшим десять лет, продолжалась с некоторыми перерывами совместная жизнь Руссо и Варанс. Сначала это было романтическое, идеальное обожание с его стороны и нежная, почти материнская привязанность с ее. Ему было семнадцать, ей - тридцать лет. Потом, когда юноша превратился в здорового, пылкого и нежного молодого человека, симпатия перешла в горячую взаимную любовь, которая дала им несколько лет безмятежного счастья. Причиной разлуки стало новое увлечение легкомысленной, сумасбродной, но всегда искренней и великодушной Варанс. Расскажем вкратце главнейшие события этого сравнительно мирного и спокойного периода в жизни Руссо.
Варанс первоначально составила план сделать из юноши священника и уговорила его отправиться для этого в семинарию, но эти планы были не по душе Жан-Жаку. К тому же и преподаватели находили его малоспособным. Это облегчило Руссо задачу уговорить свою покровительёницу дозволить ему посвятить себя музыке. Он был определен в хор певчих в Аннеси и попал под руководство регента Леметра, тонкого знатока музыки, отличного преподавателя, но необузданного и беспорядочного человека. Руссо, всегда любивший музыку, многим обязан Леметру, и, по своему обыкновению, он горячо привязался к учителю. Когда же последний поссорился с настоятелем костела и тайно скрылся из Аннеси, Руссо последовал за ним с благословения Варанс, которая, по-видимому, имела свои причины временно удалить своего любимца. Ей предстояло путешествие в Париж с какими-то таинственными политическими поручениями. Руссо, однако, оставил Леметра в Лионе и возвратился в Аннеси, но уже не застал баронессы. Некоторое время он жил у нее в квартире, предавался уединенным прогулкам, наслаждался роскошной природой этого края и даже чуть не увлекся двумя молоденькими девушками, встреченными им на прогулке. Однако Варанс не возвращалась, и квартира ее пустела. Последняя прислуга, молодая горничная баронессы, оставила квартиру и решила отправиться домой, к родителям, которые жили в Бернском кантоне. Жан-Жак охотно принял ее предложение проводить ее на родину. Он любил пешеходные странствования, а в настоящем случае и перспектива увидеть родину и отца склоняла его к тому же. Побывав у отца в Нионе, он затем поселился в Лозанне и занялся преподаванием музыки, к чему был слишком мало подготовлен.
Он даже давал концерт, но, конечно, провалился. Неудачи в Лозанне заставили его перенести свою музыкальную деятельность в Невшатель. Уже более опытный, по природе музыкальный, старательно учившийся сам, Руссо успел в Невшателе приобрести уроки и давал их не без успеха. Здесь он встретил одного сирийского монаха, выдававшего себя за иерусалимского архимандрита и собиравшего пожертвования на религиозные учреждения Иерусалима. Руссо очень увлекся деятельностью монаха и примкнул к нему, но в Золотурне французский посланник, ранее бывавший на Востоке, уличил самозванного архимандрита и приютил у себя Руссо, который увлекся идеей поступить на военную службу. Посланник отправил его в Париж, где Руссо надеялся застать и Варанс. Эта надежда не осуществилась, так же как и планы военной службы. После нескольких дней пребывания в Париже он решил возвратиться в Савойю, где и нашел Варанс, но уже не в Аннеси, а в другом городке Савойи, в Шамбери.
Все эти многочисленные путешествия 1731 года: из Аннеси в Лион, из Лиона в Аннеси, из Аннеси через Женеву и Лозанну во Фрибур, из Фрибура в Лозанну, из Лозанны в Невшатель, из Невшателя через Берн и другие города Швейцарии в Золотурн, из Золотурна в Париж и из Парижа через Лион и Аннеси в Шамбери - были совершены Руссо пешком и наполнили его жизнь именно теми впечатлениями сердечного общения с природой и простого деревенского быта, которые были так любимы Жан-Жаком и о которых он нам оставил столько бесподобных рассказов. Следить за ними значило бы перепечатать многие страницы "Исповеди", посвященные этим странствованиям. Ни задача, ни объем нашей книги не позволяют нам этого сделать. Я отмечу лишь один эпизод путешествия из Парижа в Лион, характерный для истории постепенного развития идей и философского настроения Руссо. Приведем этот эпизод в его изложении: "Однажды, охваченный желанием ближе увидеть местность, которая мне издали казалась особенно восхитительной, я свернул с большой дороги, но затем, увлекаясь видами, столько раз сворачивал вправо и влево, вперед и назад, что потерял путь. Проблудив бесполезно несколько часов, истомленный до изнеможения, проголодавшийся до смерти, я зашел в хижину крестьянина, очень бедную и невзрачную лачужку, но единственную встреченную мною в окрестности. Я полагал, что и здесь, во Франции, так же, как в Женеве и вообще в Швейцарии, все могут по желанию и средствам оказывать гостеприимство путнику. Я попросил хозяина дать мне пообедать за плату. Он мне предложил снятого молока и грубого ячменного хлеба, уверяя, что это все, что он имеет. Я с жадностью пил это молоко и уничтожил весь поданный мне ломоть хлеба, но этого было недостаточно для человека столь утомленного и так проголодавшегося. Мой аппетит убедил крестьянина в совершенной правдивости моего рассказа о себе. Он сам сказал мне об этом, прибавив, что видит во мне доброго и честного человека, который не пожелает предать его. Затем он открыл маленький люк около кухни, спустился в подполье и скоро возвратился, неся прекрасный пшеничный хлеб, аппетитный кусок окорока и бутылку порядочного вина, что меня, голодного и жаждущего, очень обрадовало. К этому была прибавлена отличная яичница, и я пообедал с удовольствием, с каким редко обедают гастрономы. Когда пришло время расплачиваться, мой гостеприимный хозяин решительно и с явным страхом отказывался принять плату. Я не понимал, чего он боится. Наконец он произнес имена надзирателей и сборщиков. Он мне сознался, что прячет от них свое вино и свой хлеб и что он был бы вконец разорен, если бы агенты эти не были уверены, что он умирает с голоду. Все это и многое другое, что он передавал мне, оставило во мне неизгладимое впечатление. Отсюда зародилась во мне та неугасимая ненависть, которая с этих пор наполняет мое сердце против лишений, испытываемых несчастным народом, и против его угнетателей. Этот крестьянин, хотя и зажиточный, не смел спокойно есть хлеб, добытый в поте лица, и мог избежать разорения, лишь прикидываясь таким же нищим, как и все вокруг него. Я вышел из его жилища столько же возмущенный, сколько растроганный, оплакивая в сердце своем судьбу этого чудного края, который природа осыпала дарами своими, ставшими добычей этих ненасытных варваров".
Так в сердце девятнадцатилетнего юноши накоплялись мало-помалу впечатления и мысли, через двадцать лет взволновавшие весь цивилизованный мир. В течение этого же путешествия, летом 1731 года, Жан-Жак, будучи в Париже, написал в стихах сатиру на капитана Годара, с которым он имел сношения, когда мечтал о военной службе. Эта полудетская шутка была первым литературным опытом Руссо. Осенью того же 1731 года Жан-Жак снова оказался под радушной кровлей своей обожаемой и нежной покровительницы, в савойском местечке Шамбери, впоследствии прославленном этим продолжительным пребыванием великого мыслителя и ставшим местом, куда стекаются многочисленные поклонники великого писателя, стараясь увидеть эти виды и пейзажи, эти тропинки, которыми любовался и вдохновлялся и по которым бродил еще безвестный тогда юноша, носивший, однако, в своем сердце судьбы человечества.
Почти восьмилетнее пребывание Руссо в Шамбери очень скудно внешними событиями, так резко отличаясь в этом отношении от предыдущего и последующего периодов его жизни. Изучение музыки и ее преподавание было долгое время главным занятием Руссо и служило ему средством к жизни. Одно время он состоял чиновником в статистическом бюро финансового ведомства Сардинии. Тогда же он получил наследство, оставшееся после матери и переданное им госпоже Варанс. Несколько раз Жан-Жак предпринимал маленькие путешествия в Женеву, где жила его тетка Бернар, потерявшая в это время и мужа, и сына; в Нион, где продолжал жить его отец; в Лион, куда его влекли некоторые завязанные им интеллигентные знакомства... Любовь его нежной подруги; природа, столь великолепная в этом чудесном уголке Западных Альп; музыка, всегда с детства составлявшая его любимое занятие; систематическое самообучение, которым молодой человек старался пополнить свое неоконченное образование; первые робкие литературные опыты в стихах и прозе,- так разнообразна и богата была внутренняя жизнь Руссо в это время, когда окончательно вырабатывались и складывались тип и направление мысли будущего властелина сердец и дум многих поколений.
Латинский язык, математика, физика, химия, астрономия, история, ботаника, но особенно литература и философия были изучаемы гениальным юношей в эти тихие годы безмятежно счастливой жизни с его любимой Луизой в Шамбери и в поэтических Шарметтах, соседней деревушке. Вот подробное описание его дня в Шарметтах, с нежной памятью занесенное им на страницы "Confessions".
"Обыкновенно я вставал очень рано, до восхода солнца, и отправлялся на свою утреннюю прогулку. Большей частью я выбирал для этого тропинку, проложенную повыше нашего виноградника по живописной местности и выводившую меня к Шамбери. Там, во время этой уединенной прогулки, я творил свою утреннюю молитву. Никаких заученных слов я не произносил при этом. Молитва моя заключалась в восторженном поклонении сердцем моим Тому, Кто сотворил эту чудную природу, что окружала меня. Я не люблю молиться в комнате: мне кажется, что стены и все эти мелочи окрест меня становятся между Богом и мною. Я люблю познавать Его в Его творениях и сердцем своим возноситься к Нему. Мои молитвы были чисты. Для себя и для той, которую никогда не отделял от себя, я просил жизни, невинной и спокойной, без пороков, болезней, тяжелых лишений; я просил смерти праведных и их участи в будущей жизни. Но более, нежели в прошении, эта молитва заключалась в поклонении и сердечном умилении. Я знал, что заслуживать милость Того, Кто распределяет блага этой жизни, надо не столько просьбами, к Нему обращенными, сколько доброй жизнью. Надо не столько просить, сколько заслужить... С прогулки я возвращался другой дорогой, делая значительный обход и с любовью взирая на мирные картины сельской жизни, природы, труда,- картины, которые одни никогда не надоедают. Издали уже я всматривался в наше жилище, стараясь разглядеть, начался ли день у моего друга? Если я замечал, что ставни ее комнаты уже отперты, я, радостный, спешил к ней. Если же они были затворены, я ждал ее пробуждения в саду, занимаясь садоводством, мысленно повторяя выученное накануне. Наконец отворялись ставни, и я спешил к постели моей подруги, чтобы обнять ее, часто еще полупробужденную, полудремлющую. И это утреннее свидание, чистое и нежное, было очаровательнее самой жгучей страсти.
Обыкновенно на завтрак мы имели кофе со сливками. Это было самое спокойное время дня у нас, когда мы беседовали всего приятнее. Наши утренние свидания наедине оставили во мне навсегда особенное пристрастие к завтраку. Я предпочитаю поэтому английские и швейцарские завтраки французским, подаваемым каждому в его комнату и наскоро съедаемым людьми, спешащими по своим делам. Часа два проводили мы вдвоем по случаю завтрака, после чего я отправлялся к своим книгам, в мою комнату, где и занимался до обеда. Начинал я с философских сочинений: с "Логики", "Опытов" Локка, с Мальбранша, Лейбница, Декарта и других. Я, конечно, не мог не видеть, что авторы эти постоянно противоречат друг другу. Сначала я задался химерическим планом их согласовать. Я изнемогал под бременем этой непосильной задачи и потратил на нее много времени. Я терял голову и не подвигался вперед в моем философском развитии. Наконец я отказался от этой химеры и избрал другой метод, которому я и обязан всеми своими успехами на этом пути и который был наиболее пригоден для меня, вообще малоспособного к учению. Принимаясь за какого-нибудь автора, я ставил своей задачей усвоить его точку зрения, проникнуться его идеями и следовать за ним, не примешивая ни своих идей, ни идей другого мыслителя, никогда не стараясь его оспаривать или ему противоречить. Я сказал себе: "Начнем с того, чтобы скопить в голове целый магазин идей, истинных и ложных, но непременно ясных, и предоставим в будущем голове моей, уже достаточно наполненной идеями, разобраться в них и выбрать более верные". Я сознаю, что метод этот имеет свои неудобства, но мне он много помог в моем самообразовании. Через несколько лет, посвященных такому мышлению по следам других, почти без критики и собственной оценки, я оказался обладателем достаточно значительного капитала идей и методов, чтобы обратиться к собственной мысли и не нуждаться более в помощи. После странствования и дела лишили меня возможности предаваться по-прежнему книгам, но мысль моя невольно и постоянно возвращалась к прочитанному, к сравнению, проверке, критике. Я обстоятельно взвешивал силу доводов, я судил своих учителей. Довольно поздно я дал свободу своему критическому мышлению, но, кажется, это не ослабило его. И когда я публиковал свои собственные идеи, меня никто не обвинял в заимствовании, в слепом следовании указке учителей, в клятвах in verba magistri. [Jurare in verba magistri - "клясться словами учителя"; в значении: слепо следовать словам учителя (лат.).]. От философии я перешел к элементарной геометрии, но никогда не поднялся в этой области выше. Недостаток памяти заставлял меня много раз возвращаться к началу и снова повторять все пройденное. Евклид был мне не по вкусу. Он гонится более за цепью доводов, нежели за связностью идей. "Геометрия" Лами мне, напротив, очень понравилась, и Лами стал одним из любимейших моих авторов. Порою я и теперь с удовольствием перечитываю его сочинения. После геометрии следовала алгебра, и тот же Лами был и здесь моим руководителем. Когда я изучил элементарную алгебру по Лами, я занялся "Наукой исчисления" Рейно, потом его же "Наглядным анализом", который, впрочем, я лишь поверхностно просмотрел. Никогда я не был достаточно посвящен в тайны математического анализа, чтобы вполне усвоить смысл приложения алгебры к геометрии. Мне не по вкусу этот метод оперировать геометрическими данными, их не видя, и мне кажется, что решать геометрическую проблему при помощи алгебраических уравнений - все равно, что играть арию, вертя рукоятку шарманки. Когда, например, я впервые нашел путем исчисления, что квадрат двучлена равняется сумме квадратов составляющих его членов с приложением удвоенного произведения этих же членов, я не был удовлетворен этим исчислением и, несмотря на его совершенную точность, только тогда доверился выводу, когда проверил его графически. Из этого не следует, однако, чтобы я не любил алгебры вообще, но она увлекала меня лишь в области абстрактных величин. Когда же ее применяли к пространственным величинам, я желал видеть, как эта операция осуществляется в фигурах и линиях. Иначе мой ум отказывался уразуметь сущность решенной теоремы и ее правильность.
За алгеброй следовал латинский язык. Изучение его было самым трудным для меня делом, и я не успел достичь многого в этом предмете. Сначала я следовал общепринятому методу учебников, но бесплодно. Эти варварские вирши мне были противны, и мои уши были для них глухи. Я терялся в лабиринте и, выучивая последнее, забывал предыдущее. Заучивание слов тоже не может быть успешно для ума, почти лишенного памяти. Я упорствовал долго на этом пути, надеясь развить память. В конце концов пришлось все-таки оставить этот метод. Я достаточно усвоил строение языка, чтобы при помощи словаря читать легкий текст. Я выбрал эту дорогу и по ней двигался успешнее. Я делал устный перевод читаемого и благодаря упражнениям со временем достиг способности довольно свободно читать латинских авторов, но никогда не мог ни писать, ни говорить по-латыни. Это обстоятельство порою ставило меня в затруднительное положение, особенно после того, как я, неизвестно почему и как, был включен в сословие литераторов. Другое неудобство такого самообучения заключалось в невозможности усвоить просодию и версификацию. Я затратил много усилий и труда на это изучение, потому что желал чувствовать гармонию языка прозаического и поэтического. Я должен был убедиться, однако, что без учителя это почти невозможно. Усвоив самый легкий размер, именно гекзаметр, я имел терпение проскандировать почти всего Вергилия, отметив повсюду ударения и долготу слогов. Потом, когда я бывал в сомнении, должно ли посчитать данный слог долгим или коротким, я обращался к моему размеченному Вергилию. Очевидно, это приводило меня нередко к ошибкам, ввиду некоторых вольностей, допускаемых правилами латинского стихосложения. Таким образом, если самообучение имеет свои преимущества, то вместе с тем изобилует и неудобствами, и трудностями. Я знаю это лучше кого бы то ни было. Перед обедом я оставлял книги и, если еще оставалось время, шел навестить моих друзей, голубей, или ухаживал за растениями в саду. К обеду я приходил обыкновенно в отличном расположении духа и с прекрасным аппетитом. Вообще аппетит меня никогда не покидает, даже когда я болен. Мы обедали самым приятным образом, с веселыми разговорами, не торопясь. Два или три раза в неделю, смотря по погоде, мы пили послеобеденный кофе в саду, в тенистой и прохладной беседке, которую я обсадил хмелем и которая доставляла нам много отрады во время зноя. Затем мы осматривали наш огород, наши цветники, сад, болтали о нашей счастливой жизни, и эти беседы заставляли нас еще сильнее чувствовать ее радости. В конце сада я имел другую маленькую семью: это были мои пчелы. Я их посещал ежедневно, и часто мы оба. С интересом следил я за их трудами; меня забавляло наблюдать, как они возвращаются с добычей, нагруженные до такой степени, что им трудно передвигаться. В первое время мое любопытство показалось им нескромным и два или три раза они ужалили меня. Но затем мы столь хорошо познакомились, что я мог подходить так близко, как хотел: они не трогали меня. И как бы ни были полны ульи, готовые выпустить рой, как бы пчелы меня ни окружали, садясь мне на руки, на платье, ползая по лицу, они никогда не жалили. Все животные остерегаются человека. Они имеют слишком много оснований для этого. Но если однажды они убеждаются, что человек не желает им зла, они вполне доверяются ему, и надо быть поистине дикарем, чтобы обмануть это доверие.
Потом я снова возвращался к книгам. Послеобеденные занятия мои можно, впрочем, скорее назвать отдыхом и удовольствием, нежели учением. Систематическая работа после обеда, среди зноя, мне была затруднительна, и я просто читал, не изучая. Меня занимали особенно история и география, и так как это не требовало напряжения ума, я достиг порядочных результатов, насколько позволяла моя память. Я хотел также изучить Пето и погрузился было в сумрак хронологии, но критика без дна и без берегов не пришлась мне по вкусу. Более привлекало меня точное измерение времени по движению светил небесных. Я очень увлекся даже астрономией, но отсутствие инструментов сдерживало это увлечение. Пришлось ограничиться общими понятиями, усвоенными из книг, и суммарным ознакомлением с небом при содействии небольшой зрительной трубы, которая была мне необходима как близорукому. Не могу не припомнить кстати одного маленького комического приключения, порожденного моими астрономическими наблюдениями. Чтобы ознакомиться с созвездиями, я приобрел небесную планисферу (карту северного неба). Я натянул ее на раму и в ясные звездные ночи выходил в сад, где укреплял раму на четырех шестах, вышиной в мой рост, обращая картой вниз и освещая свечой, спрятанной в ведре, чтобы ее не задувал ветер. Затем, наблюдая карту простым глазом, а небо в трубу, я старался изучить звезды и созвездия. Наш садик был на возвышении, и с дороги было видно все, что в нем делается. Однажды запоздалые крестьяне, проходя мимо, увидели меня за моим занятием. Свет, падающий снизу на мою планисферу, причем источник света был от них скрыт, четыре шеста, поддерживающих громадный лист, покрытый какими-то знаками, наконец, блеск оптических стекол, двигавшихся взад и вперед,- все это порождало в них идею о волшебстве. Они крайне перепугались, а мой костюм никак не мог их успокоить. Ночной колпак на голове, дамский ватный капот на плечах (который меня заставила надеть заботливая подруга) должны были окончательно убедить их, что перед ними колдун, а полуночное время внушило им мысль о начале шабаша. Испуганные, они поспешили удалиться и разбудили соседей, передавая им свои ужасные наблюдения. Наутро уже вся окрестность знала, что вчера ночью состоялся шабаш колдунов и ведьм в нашем саду. Не знаю, к чему привели бы эти слухи, если бы один из крестьян, бывших свидетелями моего колдовства, не донес об этом немедленно двум иезуитам, нас посещавшим. Не зная еще, в чем дело, они поспешили успокоить крестьянина. Они рассказали мне эту историю, я им объяснил причину, но все же было решено, что я больше не буду рисковать и оставлю мое остроумное изобретение, а справляться с небесной картой буду дома...
Таков был мой образ жизни в Шарметтах, когда я не был занят полевыми работами, к которым я всегда чувствовал большую склонность. Насколько позволяли мои слабые силы, я старался делать всю крестьянскую работу. Правда, эти силы были так невелики, что я могу говорить скорее о своих желаниях в этом отношении, нежели об их исполнении".
Эта длинная цитата из "Исповеди" прекрасно рисует тогдашнюю жизнь Руссо. Описание относится к лету 1736 года, но все лета с 1733 по 1739 год были в общих чертах одинаковы. То же упорное самообучение, те же наслаждения природой, то же упоение нежными отношениями с Луизой Варанс. Зимние дни, проводимые в городке, отличались от летних, вакационных, преподаванием музыки и службой в статистическом бюро. Научные занятия, однако, не прекращались и зимой; они только разнообразились в течение этих шести-семи лет счастливой любви Руссо и Варанс. По мере изучения одни предметы заменялись другими, одни авторы следовали за другими. Философия, математика, латинский язык и музыка составляют, однако, постоянное занятие этого слабого здоровьем, но сильного духом человека, сумевшего не только заполнить пробелы неоконченного элементарного обучения, но и приобрести широкое философское и литературное образование. Эти спокойные, трудовые и счастливые годы вооружили нашего мыслителя для его уже приближающейся всемирной деятельности.
Идиллия Шамбери и Шарметт прекратилась весною 1740 года, когда Жан-Жаку было двадцать восемь лет, а его увлекающейся Луизе - сорок. Я уже упомянул, что Руссо разнообразил свою жизнь маленькими путешествиями. Состояние здоровья побудило его и весною 1740 года предпринять путешествие в Безансон с целью посоветоваться с известным врачом. Отсутствие длилось дольше, нежели первоначально предполагалось, а когда Руссо возвратился, он нашел, что в сердце нежной подруги место его занял другой. Верная своим великодушным воззрениям на любовь Варанс предлагала ему остаться на прежнем положении, но Руссо отказался и вскоре переселился в Лион, где имел, как было упомянуто, интеллигентных друзей, уже многого ожидавших от него. С их помощью он скоро устроился домашним учителем к аббату Мабли, старшему брату известного писателя, идеи которого были родственны идеям Руссо. Около года пробыл Жан-Жак в семействе Мабли, заканчивая свое образование и мало-помалу заводя литературные знакомства. Некоторые литературные опыты, впоследствии напечатанные, были написаны в это время. Тогда же познакомились с ним Кондильяк и Мабли-писатель. Продолжая с увлечением заниматься музыкой, Руссо натолкнулся на идею новой системы обозначения нот. Много и долго работая над этой идеей, ему удалось создать систему, в некоторых отношениях имевшую преимущества перед принятой. Поглощенный своим замыслом, увлекающийся Жан-Жак строил воздушные замки. Надо было отправиться в Париж и представить свое изобретение в Академию. Заработанное у Мабли жалованье и вырученные от продажи книг деньги составили тот небольшой капитал, с которым наш двадцатидевятилетний Жан-Жак направился в "столицу мира". Отныне он "утлый свой челнок привяжет к корме большого корабля"!
Это было весной 1741 года. Руссо здесь ставит точку в описании своей молодости и заканчивает первую часть своих "Confessions". Мы дополним, однако, эту главу краткими сведениями о ближайших годах его жизни в Париже, до начала его всемирной литературной деятельности. Прибыв в Париж, Руссо, при помощи своих лионских друзей, сразу вошел в круг высшей интеллигенции и был принят в салоны. Он имел успех, и его нотная система заставляла много говорить о себе. Некоторые его музыкальные пьесы тоже стали известны. Дидро пригласил его участвовать в "Энциклопедии", и Руссо составил несколько статеек по музыке, но их, конечно, нельзя было считать его литературным дебютом, как и шутливых комедий, сочиненных им в это время. Академия, однако, рассмотрела его нотную систему. Отзыв был самый лестный, система признана остроумной и удобной, но недостаточной для того, чтобы переучиваться и переучивать весь мир. К тому же опытные музыканты находили, что читать ноты по этой системе труднее. Упования Руссо еще раз не осуществились. Кое-как перебиваясь перепиской нот, музыкой, мелким литературным трудом, Руссо продолжал расширять свои литературные связи. Кроме Дидро, Мабли и Кондильяка, уже упомянутых, Гримм, Д'Аламбер, Гольбах, Гельвеций знакомились с симпатичным, талантливым молодым человеком, покуда еще не определившим своего призвания и упорно стремившимся пробиться в качестве музыканта и композитора. Это не удалось, и Жан-Жак принял в 1743 году предложенную ему должность секретаря французского посольства в Венеции.
Дипломатическая служба продолжалась около года. Руссо выказал недюжинные способности на дипломатическом поприще и заслужил уважение венецианцев и любовь проживавших в Венеции французов. Однако ссора с надменным посланником заставила Руссо вернуться в 1744 году в Париж, где вскоре он получил место у барона Де Франкея, по финансовому ведомству. Он продолжал заниматься музыкой и сочинял мелкие театральные пьески; некоторые из них давались и заслужили успех. Но, конечно, не здесь было призвание их автора, как и не в музыке. В это же время Руссо сблизился с девицей Терезою Левассер, на которой впоследствии женился. В 1750 году вышли его первые политико-философские сочинения. Подготовительный период завершился, и Жан-Жак Руссо решительно и со свойственной ему страстностью посвятил себя делу, которое обессмертило его имя, но ему самому принесло множество огорчений и бедствий.
Подробнее о жизни Жан Жак Руссо на сайте
http://www.ssga.ru/erudites_info/peoples/russo/part02.html
|
|
|
Перепечатка информации возможна только с указанием активной ссылки на источник tonnel.ru
| |
 | |  |
| |
|
|