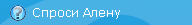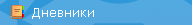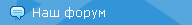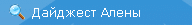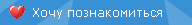Вадим Пальмов. Времена-годы
Из беседы с самим собой
«Знаешь, судьба начинает совершать свои повороты гораздо раньше самих событий, воспринимаемых нами как повороты судьбы.
Смутное брожение происходит внутри нас, но мы не слышим часового механизма, отсчитывающего годы, месяцы, дни.. а может, минуты до..»
До чего?»
Я смотрю в себя.
Я пытаюсь угадать новый поворот.
Самолет из Санкт-Петербурга в Ганновер, бежавший по пулковской взлетной полосе, уносил в себе нас троих и добрую сотню этнических немцев из Казахстана – мужчин в кожаных куртках и кепках, женщин в платках и кремпленовых платьях. Впервые мы оказались в одной упряжке. И они, и мы переселенцы.
Было раннее утро. Телу было дурно, душе муторно. Хотелось выпить.
Вспоминался переезд в Ленинград из Свердловска, города моих первых 18-ти лет.
Тоже поворот судьбы.
Рейс тогда откладывали несколько раз, и несколько раз мы тяжело прощались с мамой, ездили вместе в аэропорт, возвращались домой..
Поздний вылет - и - Ленинград, когда-то влюбивший в себя, а теперь такой чужой, встречающий холодной пустотой улиц черной августовской ночью.
Многие годы после переезда в Питер я не мог оторваться от мамы, еще долго-долго приземление в Свердловске было для меня моментом счастья, а отъезд - тяжелым переживанием..
Когда-то Ленинград, казавшийся радостным, сверкающим куполами и шпилями, приручал к себе приезжавшего на каникулы школьника, манил запахом воды, ласковым летним ветром..
Мой одинокий угрюмый город, в котором, как сказал мудрый человек, негде укрыться.. Спустя годы я полюбил тебя именно таким.
И эта любовь, в отличие от той первой влюбленности - до гроба.
Так влекла Германия солнцем, цветением магнолии, рейнскими замками, бесшумными автомобилями, чистотой – не последнее обстоятельство для измученного дурными запахами в Отечестве – и повсеместной вежливостью, которую отождествляешь с искренним расположением.
Все это было согрето вот уж воистину неподдельно сердечной опекой, оказываемой друзьями, принимавшими меня и делавшими все для моего удовольствия.
Германия и сегодня остается такой. Солнечной, вежливой, вкусной.
И друзья, вот уже 30 лет живущие в ней, как и тогда - преданные и любящие.
Самолет в Ганновер летел по расписанию, мужчины в кепках и женщины в платках с детьми на руках выстраивались в очередь к туалету.
По старой советской привычке мы трое были элегантно одеты – летим на Запад.
Помню мой белый летний пиджак, купленный во время недавних гастролей в той же Германии. В нем несколько позже я предстал перед начальницей лагеря для переселенцев, бывшей гэдээровкой с партийным прошлым фрау N.
Но тогда в самолете это все еще не было фактом.
Я пил джин.
Ауфтакт
Звучанию оркестра предшествует ауфтакт. Это тот самый жест дирижера, сообщающий музыкантам характер движения музыки и описываемый в литературе примерно так: дирижер взмахнул палочкой, и полилась мелодия!
Ауфтактом к началу моей «сознательной» жизни стала папина смерть.
Без сомнения это было для меня первым по-настоящему осознанным и глубоко пережитым событием. Стройная конструкция моего, к тому времени семилетнего, существования изрядно покосилась.
Жизнь началась с поворота судьбы.
Папа был моим Героем. Он был моим Героем при жизни, я это хорошо помню.
После жизни он стал моей легендой.
Он был любим многими, да и как можно было его не любить..
Темперамент бросал его в самые разнообразные области деятельности.
Папа был, как и я, пианист с консерваторским образованием, в котором, по-видимому, было ему тесновато. Он сочинял песни и стихи – то, и другое периодически публиковалось, – а 29-ти лет отроду, решив заняться режиссурой, поступил в ленинградский театральный институт на курс самого (!)Товстоногова.
Коллеги по учебе ценили его еще и как замечательного драматического артиста.
Он долго болел и мучительно умирал. И теперь я понимаю, что поворот моей судьбы бродил долгие годы в его теле, а смерть его круто изменила нашу с мамой жизнь. Через несколько лет в доме появится чужой человек и все пойдет кувырком.
Папы не стало почти 40 лет назад, но сигналы от него продолжают поступать -
то опубликованные стихи, то невесть откуда появляющиеся радиозаписи его песен, то не знакомые мне доселе люди с историями о нем...
В 90-е на гастролях в Воронеже после концерта у меня в артистической комнате появилась женщина, на которой папа женился в 19 лет, их брак был недолгим..
Еще раньше, в 1989 году в Ленинграде я нашел моего брата, рожденного от отца вне брака. Только тогда, будучи 27-ми летним я узнал, что был у папы не один.
Он любил сюрпризы..
Последний, совсем недавний привет от него – новый художественный фильм,
в котором звучит песня на папины стихи его друга, замечательного композитора Вадима Бибергана...
Думаю, это не последнее папино послание..
Лагерь приема въехавших в Германию из бывшего СССР находился в маленьком изящном городке в предместьи Ганновера. Туда мы приехали из аэропорта на такси за 200 немецких марок.
Наше «эффектное» появление среди прибывших раньше нас из нашей же страны мужчин в тренировочных штанах с пузырями на коленках и женщин в синтетических блузах выглядело более чем нелепо.
Я вспомнил мамино «культура – это уместность».. Действительно, ведь плюнуть в музее неуместно так же, как и слово «агностицизм» из уст одного глубокоуважаемого ученого в разговоре с шахтерами Кузбасса.
Всему свое место. Ты права, мамочка. Культура – это уместность. Сколько раз в жизни я убеждался в этом.
Как же неуместно мы выглядели в наших нарядах тогда, когда отправлялись получать положенные нам по разнарядке казенные тарелки и белье! Какими смешными мы были, когда сидели на двухэтажных нарах в подвале с зарешеченными окнами!
Как все это было странно нам, привыкшим приезжать в Германию гастролерами из Петербурга..
Юля работала в Питере в Малом оперном, который чуть ни каждый год по месяцу выступал в немецком Хайльброне. Даже маленький Игорёша успел в группе юных музыкантов дать несколько концертов здесь.
Вот уж воистину, эмиграция – лучшее средство от высокомерия, не помню, у кого я это прочитал.. Не в одежде было дело. Наше самоощущение было неуместным.
Жизнь утирала нам нос.
Стены общежития изобиловали надписями на русском языке с запретами и угрозами (например, закрыть туалеты, если будем сорить). В столовой на раздаче кряжистая женщина наматывала на вилку прозрачную колбаску, которая рвалась на лету прежде чем упасть в тарелку. Шанс урвать утренний кофе был невелик по причине расторопности более опытных соотечественников, знавших толк в дефиците
и чуявших кожей, когда где и что «выкинут»..
К 8-ми утра бак с кофе был, как правило, до капли опустошён.
Поразительный факт, но мало кто из моих сограждан, оказавшихся в ситуации лагеря для переселенцев в Германии, рассказывал на Родине об этом «ушате ледяной воды», мгновенно меняющем привычное ощущение собственной персоны.
Положение незавидное – выражение себя на чужом языке дает психологическое превосходство говорящим и унижает бормочущих и заикающихся; по иностранному телевизору произносится «одно нескончаемое слово», потому что отделить слова одно от другого на слух Вы не в состоянии.. Боязнь сесть в трамвай заставляет часами стаптывать подошвы, Вы бежите из магазина (или не входите в магазин) из страха, что к Вам подойдет улыбающийся продавец с предложением помочь, а Вы немой.
И любой маленький бюрократ внутренне презирает Вас, как будто Вы только что слезли с дерева и еще не лишились хвоста. Вы не местный, Вы - советский.
Помню, на улице того первого в нашей немецкой жизни городка
из остановившейся машины высунулась женская голова, произнесла название улицы и спросила, как туда проехать. В первый день нашего пребывания здесь мы не могли дать ей внятного ответа, однако, набрав полную грудь воздуха, я все же выдавил заученную фразу: «Wir sind fremd hier..»(мы не отсюда) и мгновенно получил ответ:
«Ja, Sie sind wirklich fremd hier» (да, вы действительно чужие).
Темнело, тянуло лечь на чужие двухэтажные деревянные кровати в подвале с зарешеченным окном и плыть, парить, вспоминать...
Как сладко в прошлом.. Как хорошо, как уютно в нем жить, как человечно! Прошлое лучше настоящего, я точно это знаю. В прошлом нельзя было грубить старшим и не уступить места в автобусе. Даже драки в прошлом были до первой крови. Прошлое – настоящее. В нем и сейчас вы, мои дорогие, мои ушедшие, зачем-то переплывшие на другой берег. Я вижу его этот берег, я знаю, вы там –живете, любя, печалясь, как когда-то здесь.. И так же, как здесь, ровно в девять утра того времени мой дорогой Учитель Натан Ефимович Перельман садится за рояль и начинает день с Моцарта.. «Я начинаю день с Моцарта, когда еще темно, какое наслаждение!»
Там и вы, Буся с Котей (папины родители назывались у меня так – Буся - бабуся и Котя - деда звали Константин). Там Бабушка с Дедом, родители моей мамы. Там Папа.
До вас рукой подать..
« О прошлом жалеем, настоящего не ценим, в будущее стремимся..»
Дед
Два подраненых безотцовщиной мальчика, мы с двоюродным братом (сыном маминой родной сестры) росли вместе. Моего папы не стало, а отец брата просто позабыл о нем.
Не знаю почему, но мы сидели на шкафах, составленных вместе в спальне бабушки и деда, в теплом, родном доме на улице Попова в Свердловске и писали книгу.
Героями книги были ранее разыгрываемые нами абсолютно монстральные персонажи – Главарь (именно главарь!) Земного Шара, его брат – близнец, самый сильный человек в мире и сын Главаря. Все трое жили какое-то несметное количество лет, исчисляемое новоизобретённой единицей «сиксилиард» и издевались над подневольным народом. Впоследствии братом Главаря из земли было извлечено ядро, и на его месте возникла страна, население которой получало в качестве зарплаты одну копейку в год, а за малейшую провинность - расстрел. О возмездии тиранам речи не было.
Книга писалась от руки в амбарном кондуите, украденном у деда.
Когда нам надоедало литературное творчество, мы прыгали со шкафа на стоящие внизу составленные вместе кровати. В конце концов, после очередного прыжка одна из них была проломлена начавшим к тому времени стремительно расти и прибавлять в весе телом брата.
Дед, будучи противником дидактического воспитания, не только не ругал нас, но еще и приносил нам на шкаф еду, чтобы наш литературный процесс не прерывался.
Как хорошо нам было в 40-градусный мороз, когда по радио объявлялось официальное освобождение школьников от занятий, сидеть на шкафу в теплой квартире за ослепшими от ледяных узоров окнами и писать нашу книгу!
В доме бабушки и дедушки нами, тем не менее, было совершено изрядное количество повреждений, в том числе и более крупных, чем сломанная кровать.
Желание пакостить было не удержать, а результаты впечатляли размахом.
Трудно теперь объяснить это детскуюое потребность желание что-то испортить - жгучуюее, непреодолимуюое, как звериный инстинкт.
Зачем я это делал?
Зачем?№1
Эта спичка, зажженная спичка, поднесённая близко к тюлевой занавеске в спальне деда и бабушки. Ощущение еще не свершившейся катастрофы, но её близкого, уже так реально ощутимого приближения.. Лихорадило.. Воображение невозможно было удовлетворить, не совершив ужасное.
Занавеска вспыхнула. Вместе с ней огнем занялся платяной шкаф и оконная рама. Раскалённая люстра меняла форму, потолок почернел. Не в силах остановить огонь,
я бросился в дедов кабинет, где он по обыкновению что-то читал.
«Пожар!», -крикнул я так, как будто кто-то другой, а не я совершил поджог.
Вслед за дедом в горящую спальню вбежала бабушка.
«Мои трусы!», - кричал дед в надежде спасти сохнувшее на батарее нижнее белье.
«Что твои трусы! Они стоят 20 копеек, там моё платье!», - отвечала бабушка, пытаясь вместе с дедом загасить пламя. Слава Богу, им удалось.
Я убежал в кабинет и долго сидел там один, потрясённый содеянным.
А потом написал на тетрадном листке: «клянусь здоровьем мамы, это никогда не повторится».
Дед прочитал.
Ни он, ни бабушка не ругали меня.
На утро второго дня в Германии мы были приглашены в кабинет начальницы общежития фрау N. Своей элегантностью и подчеркнутой дружелюбной открытостью мы пытались произвести впечатление более европейское, чем бывшие наши сограждане.. Да, да, это было именно так, чего уж тут скрывать..
Из всего разговора с фрау N запомнился только один эпизод: на мой вопрос, нельзя ли где-нибудь в этом маленьком городке найти пианино для занятий, я получил неожиданный ответ: «Оставьте Ваши иллюзии! Если Вы думаете о продолжении Вашей профессиональной деятельности здесь, то глубоко заблуждаетесь. Положение на рынке труда...»
Ну и дальше в том же духе.
Я помню свое несколько одеревяневшее состояние после.
В тот момент во второй день, да и в последующие месяцы и даже годы мы были совершенными детьми, не умевшими ответить, да и в целом жить в этой новой жизни и лишь постепенно узнавали, что можно, а что нельзя. Суровое советское прошлое научило нас молчать в моменты унижения.
Впрочем, умение обхохатывать любую ситуацию спасало от уныния.
Фрау N, особо не церемонясь, уже на следующий день отправила нас «лечиться от высокомерия» в далекий лагерь, находившийся аж в трёх часах езды от Ганновера, куда мы так стремились и находились-то от него всего в тридцати минутах езды на региональной электричке.
Позже мы узнали от коллег по эмиграции, что не со всеми суровая фрау N поступала одинаково.
Зависело от обстоятельств.
Я думаю, это было в 1971 году. Прошло два года после папиной смерти.
Дед, озаботившись организацией летнего отдыха внуков, снял дачу на озере Шарташ под Свердловском. Все было готово к отъезду.
В те времена во дворе на улице Попова, где жили дед и бабушка, мальчишки традиционно играли друг с другом в хоккей, футбол, метали перочинные ножики,
в солнечные дни выжигали лупой на деревянных скамейках.
С ними больше играл мой брат, чем я, не любивший дворовое общество.
Среди соседских детей были двое, жившие на пятом этаже того же дома, что и дедушка с бабушкой. Не помню, как и когда эти мальчики приютили маленького дворового пса Черныша, который какое-то время прожил в их квартире, пока не исчез.
Сбежал ли он, или его увели – не знаю. Но перед самым нашим с дедушкой отъездом на озеро Шарташ Черныш внезапно появился во дворе. Вид у него был изрядно побитый, глаза выдавали не слишком приятные впечатления от жизни вне дома.
Его хозяев не было, стояло лето, все уехали кто куда. Мы с братом не думая взяли собаку к себе.
Бабушка, к тому времени вышедшая на пенсию врач-гинеколог, была человеком необыкновенно чистоплотным, её не могло радовать присутствие в доме бродившей не весть где собаки. Дед тоже не выказывал энтузиазма. Однако оба не позволили себе и намека на сопротивление столь человечному поступку внуков, предоставивших кров беззащитному бездомному существу.
На Шарташ мы отправились вместе с Чернышом.
Зачем?№2 (фекально-уринная история)
Дед снял для нас комнату в небольшом деревянном доме. Хозяйка, ничем не запомнившаяся мне простая русская женщина, разрешила нам жить всем втроем в одной большой комнате и не велела входить во вторую, совсем маленькую с одной кроватью, по-деревенски покрытой тюлевым покрывалом и подушкой сверху.
В нашей же большой комнате было много всякой всячины. Мы спали на стоявших там хозяйских кроватях и привезенной с собой раскладушке.
Было и чем себя развлечь: среди прочей старой мебели стояло аудио-устройство советского производства, называлось Радиола – комбинация радио и монопроигрывателя.
Разумеется, за неимением иных развлечений – вокруг деревня, да озеро (дед, как всегда, сидит в деревенской библиотеке) – мы устремили взоры к радиоле.
К нашему удовольствию были найдены и пластинки. Впрочем, не совсем пластинки. Это был знаменитый во времена, заклейменные перестроечными идеологами словом «застой», популярный журнал «Кругозор», выходивший, по-моему, раз в месяц.
В журнале том публиковали информацию о популярной музыке - в основном, советской. Но самым желанным были гибкие пластинки – журнальные вкладыши. Иногда на тех пластинках в качестве «морковки для ослика» (чтобы выписывали) попадалось и кое-что из разрешённой зарубежной эстрады.
Иностранные исполнители в хозяйкином собрании «Кругозоров» обнаружены не были. Оставалось довольствоваться популярной песней 70-х «Разговоры, разговоры..», исполнявшейся какой-то полуфольклорной советской певицей.
Из всей песни помню только припев:
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется,
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется!
Я не знаю зачем. Я до сих пор не могу объяснить себе, как вообще мне пришло в голову такое - поставить пластинку и мочиться на вращающийся диск под звуки песни «Разговоры..» и одобрительные реплики брата, не ожидавшего от меня столь впечатляющего шоу.
Аттракцион настолько увлек нас обоих, что повторения не заставляли себя ждать.
Шли дни. Диск крутился все медленней и медленней. Комната пропиталась запахом мочи.
Тем временем Черныш, шатаясь по деревенским улицам, подхватил какую-то заразу, доведшую его до тяжелого желудочного расстройства.
Приехавший из города навестить меня Котя застал удручающую картину нашего летнего отдыха: на дворе непрерывно опорожнялся бедняга Черныш, из открытых окон лилась какофония.
Это певица в черепашьем темпе на низких оборотах выла басом бывшую песню «Разговоры..».
Нам всегда было хорошо с дедом. Когда мы были маленькими, он не выстраивал воспитательных концепций в отношении нас, а наоборот, давал нам полную свободу, утверждая, что детей надо баловать.
Интерес к психологии жизни, к мировым геополитическим процессам составлял его интенсивную внутреннюю жизнь. И о жизни в целом ему интереснее было говорить именно с позиций аналитика, а не обывателя, озабоченного сиюминутными экзистенциальными вопросами.
Сколько увлекательных бесед было у нас с ним на кухне той самой квартиры на улице Попова, когда я стал взрослее и тоже стал вникать в интересовавшие деда темы! Часто, увлекшись беседой, мы оба не замечали пролетевших, как мгновение, 3-х –4-х часов. Мое счастливое прошлое!
Крутые повороты судьбы заставили его отстраненно и с опаской относиться к советскому обществу. В 20-е годы он воевал с басмачами в Средней Азии.
Был политруком. В те же 20-е – начало 30-х угодил на службу в контрразведку, откуда правдами и неправдами уволился в 1931-ом.
В 1937-ом, когда советская репрессивная система перемалывала в муку свои собственные кадры, он был на грани ареста по доносу как председатель горисполкома (мэр города) одного из небольших городов на Украине. Готовясь к худшему, он тогда побрил голову наголо, зная, что в НКВД в качестве пытки не только прищемляли пальцы дверьми, но и таскали за волосы. Ему повезло. Ареста не произошло.
Но с должности мэра он был уволен.
Об этом темном времени я много услышал от деда и, в том числе, впечатляющую статистику репрессий - из 54-х председателей горсоветов Донбасского угольного бассейна остались в живых только двое – мой дед «и еще один старик» - так он говорил.
Мой дедушка был еврей. Он происходил из маленького еврейского местечка в Белоруссии. Атмосфера этих мест известна миру благодаря воспоминаниям и картинам Шагала. О той жизни деда я помню и сейчас кое-какие истории..
После увольнения с должности предгорисполкома, осознав всю тщету и опасность нахождения в Системе, он стал учиться и получил три образования, многое сдав экстерном. В 1953 году перед самой смертью Сталина деда обвинили в создании сионистской организации и таким образом «зарубили» ему защиту диссертации.
Драматические обстоятельства жизни, природный талант аналитика и высокие представления о морали привели его к иным смыслам собственного бытия, чем тот путь, который виделся ему в начале жизни.
Познание, самопознание и семья – его любовь, его крепость – были жизненными опорами.
Когда дед умер, мы с мамой пришли в пустую квартиру одного из дальних районов тогда уже не Свердловска, а Екатеринбурга, куда они с бабушкой были переселены из-за капитального ремонта в их доме.
Кроме покосившейся мебели, старых треснувших тарелок и чашек там не было ничего. Мы все были бедными тогда.
Подняв с пола маленький клочок бумаги, я прочитал написанное рукой деда:
«... Правду знает не тот, кто глядит себе под ноги, а тот, кто знает по солнцу , куда ему идти...» Л.Толстой.
Наш второй лагерь находился приблизительно в 3-х часах езды от вожделенного Ганновера. Почему мы стремились именно в Ганновер? Очень просто. Мы привыкли жить в больших городах. Здесь советское представление резко отличается от европейского - чем дальше от центра, тем хуже жизнь. От центра страны, от центра города. Централизованность пронизывала каждую, даже самую незначительную структуру жизни. Так было в моей стране тогда.
Да и сейчас Москва и Петербург остаются странами внутри страны – различия все еще очень и очень велики.
Оттого и бросалась в глаза та советская провинциальность – тогдашние столичные жители внешне весьма и весьма отличались от провинциалов, в том числе и своей раскованностью («раскованность – лошадиное слово», - говорил Натан Ефимович).
А периферией считалось все, что не Москва и Ленинград.
Даже мой родной Свердловск - город, который населяют почти два миллиона человек, считался провинцией.
Этому представлению, конечно же, способствовала поразительной циничности система «категорий снабжения» питанием и прочими «товарами народного потребления». Благодаря столь «гуманному» способу распределять из центральной кормушки необходимое, Москва и столицы союзных республик снабжались несравнимо лучше, чем, скажем, Свердловск, в котором начиная с 70-х годов и до знаменитой реформы Ельцина – Гайдара, горожане не видели в магазинах, ну например, говяжьего мяса.
Оно просто было изъято из рациона питания трудящихся.
Мяса не было в Свердловске даже тогда, когда наступило время «талонов» на питание - столь элегантное название должно было отвлечь от ассоциаций с продуктовыми карточками военных времен..
Ларчик открывался просто – в городах «1-й категории снабжения» бывали иностранцы. Они не должны были видеть удручающих условий существования большей части населения нашей страны. Вообще в появлении иностранца в Свердловске было что-то волшебное.
Насколько я помню, в брежневские времена доступ туда зарубежным гостям, исключая особые случаи, был просто закрыт.
Город выстраивался в очереди, продавцы писали порядковые номера на ладошках покупателей , чтобы не было обмана, кто за кем, а последние, измученные пыткой выстаивания очередей при любой погоде (очереди бывали и километровые в несколько кварталов), вздыхали: «ничего, лишь бы не было войны..».
Так дедушка с бабушкой часами проводили в очередях, а потом добытое изнурительным многочасовым стоянием на слабеющих ногах приносили нам.
Тогда старикам было уже хорошо за восемьдесят.
Действительно, ощущение близящейся войны и страх перед возможным обменом ядерными ударами между СССР и Америкой было сильным.
Ощущение это, конечно, энергично подогревалось пропагандой, переводя беспокойства граждан от очередей в плоскость вероятных внешних угроз.
Новый лагерь, новая казённая постель, нехитрая утварь для сносного быта,
три кровати – две в два этажа одна над другой и одна, стоящая у противоположной стены. Стол, три стула.
За окном католическая церковь и каждые пятнадцать минут - звон колоколов.
Наше жилище на предстоящие 3 месяца.
Есть еще холл, где обитатели общежития собираются у телевизора, туалет и душ. Обычные условия для закалённого коммунальным прошлым «совка».
Не хуже и не лучше того, что было. Впрочем, нет.
Питерской коммуналки мне не забыть никогда...
Бедные мои Буся с Котей.. Подорванные смертью папы, их сына, к тому же,
не первого из их сыновей умершего – был еще маленький Герочка, скончавшийся от болезни годовалым - они решили уехать из Свердловска и поменяли теплую просторную двухкомнатную квартиру в доме сталинской архитектуры на комнату в многонаселённой ленинградской коммуналке.
Комнату эту перегородили фанерной стеной, и получилось из одной две.
Такие узкие комнаты еще называют пеналами.
Решение покинуть Свердловск было тяжелым – здесь оставался любимый внук и могила их сына.
Но в Ленинград им было нужно еще и потому, что там жил и работал актером младший сын, папин родной брат и мой дядя. У него не было своего угла, а они своим переездом могли обеспечить дяде в качестве постоянного жилья один из «пеналов» перегороженной комнаты семикомнатной коммунальной квартиры, находившейся напротив бывшей мастерской Репина на проспекте Римского-Корсакова.
Никаких покупок-продаж квартир в нашем обществе «развитого социализма» тогда не было. Купить можно было только так называемую кооперативную, да и то, кооператив нужно было «ухватить» – тоже дефицит. Все остальные возможности обрести жилье были сопряжены, опять же, с очередями.
Так же дело обстояло и с машинами.
Очередь. Символ эпохи Брежнева. Очереди на квартиру и машину могли длиться десятилетиями.
Разрешение требовалось и для обмена квартиры в провинциальном городе на квартиру в Москве и Ленинграде. Слава Богу, среди старых документов Бусе и Коте удалось найти полувыцветшую от времени справку об их проживании в Ленинграде до войны. Та справка и послужила основанием для бюрократического разрешения на обмен.
Они приехали в Питер в 1929 году из Астрахани и поселились на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта в знаменитом Доме Мурузи.
В том доме жил родившийся в 1940 году Иосиф Бродский. Этот же дом стал первым домом моего папы, родившегося в 1937-ом.
Во время войны Котя пошёл в ополчение, защищал от гитлеровцев Пулковские высоты под Ленинградом, с гордостью рассказывал как в бою штыком «проткнул брюхо фашисту». Позже он был тяжело ранен и эвакуировался вместе с семьёй на Урал
(к слову, мамины родители тоже эвакуированные. Только с Украины. Так что я в определённом смысле дитя эвакуации..).
Котю и Бусю влекло к искусству. Ни тот, ни другой другая не имели высшего образования, а уж тем более профессионального театрального, или музыкального. Однако оба они были людьми яркими именно в том самом артистическом отношении. Их дом был не только щедрым, гостеприимным, «вкусным», но и «музыкальным» - любили петь, любили слушать профессиональную музыку вживую, по радио, позже - по телевизору.
Через некоторое время после переезда Буси и Коти в Ленинград я начал навещать их. Тогда впервые я попал в непривычное пространство ленинградской коммунальной квартиры. И хоть маленький человек легко адаптируется в кажущихся взрослым непригодными для нормальной жизни условиях, присутствие на одном жилом пространстве множества людей, вместе стоящих на кухне и пользующихся одним туалетом, все же поначалу казалось странным. Довольно скоро, впрочем, я перестал замечать особенности «коммунального рая», ведь за стенами мрачного дома в Коломне был весь Ленинград – праздничный, волнующий, зовущий.
Тогда и коммуналка была еще милостива ко мне. Пока что я не жил в Ленинграде,
я был свердловским школьником на каникулах у Буси и Коти.
А уж они делали из моего посещения праздник.
Они и Ленинград.
1 : 1
Профессиональный рефлекс бросает нас на поиски инструмента, где бы мы ни находились.
Увы, в отличие от других музыкальных исполнительских профессий, наш инструмент возить с собой удаётся далеко не всем. Это мог позволить себе великий Горовиц.
Куда уж нам смертным!
Так произошло и во втором пункте нашего поселения в Германии.
Друзья Шики, находившиеся на другом конце страны, пытались со своей стороны по телефону выяснить обстановку.
Сейчас уже не помню, кто дал нам совет обратиться к аптекарю. По каким-то неведомым мне причинам именно у аптекаря можно было попросить ключ от школы, пустовавшей в каникулярные летние месяцы.
В школе было пианино.
Позже выяснилось, что жена аптекаря преподавала в той самой школе музыку.
Сначала нужно было посмотреть, где находится аптека и как зовут аптекаря, ведь любое соприкосновение с чем-то местным, немецким, требовало от нас в то время определённого количества репетиций.
Сперва нужно было постараться правильно сформулировать нашу просьбу и, что не последнее (упаси Боже!), не ошибиться в произнесении имени того, к кому обращаешься.
Аптеку мы нашли. Но когда прочитали на вывеске имя её владельца, то поняли, что обращаться к нему никто из нас троих не готов.
Дело в том, что имя его по своему звучанию точно соответствует грязному русскому ругательству, обозначающему не что иное как мужской половой орган.
В этот же день позвонил Шик и сказал: «Вадик, я навел справки по поводу инструмента. Ключ у аптекаря, но я хочу тебя предупредить, что его зовут..», - и он назвал имя. « Этот прискорбный факт мне уже известен.», - отвечал я.
Конечно, никто из местных жителей, да и сам аптекарь, не мог знать (один шанс из ста) значения своей фамилии на русском языке. Проблема заключалась не в том. Смешливость, вот в чем было дело. Это страшное физиологическое нечто, которое сильнее меня.
Боже, сколько раз она подводила меня, сколько раз я попадал в неловкие ситуации от неспособности выдержать вулкан смеха, предательски прорывающий хлипкую оболочку тела, сотрясающий, доводящий до слез и коликов.
Предстояло решить, кто первым из нас двоих обратится к нему.
Я поступил не по-мужски – Юля взяла на себя эту нелегкую миссию.
Все же, стремясь избежать неловкости главным образом перед самой собой, не привыкшая произносить нецензурных слов, обращаясь к милым коллегам аптекаря , она попыталась произнести имя как-то поэлегантней и выпустила одну букву.
Её, конечно, не поняли и переспрашивали до тех пор, пока, краснея, она честно не выговорила фамилию до последнего звука. Меня душил смех.
Ключ мы получили. Аптекарь и его жена оказались милейшими людьми.
Аpropo, в нашем общежитии, находившемся в квартале от пресловутой аптеки, жил человек, такой же вновь приехавший, как и мы. Жил вместе с семьей.
Его фамилия была Фикман(1). Мы никак не могли понять, почему комендантша общежития окликала его и его родных «Фишман».
И лишь по мере дальнейшего узнавания немецкого языка нам стало ясно, что она, как и Юля в случае с аптекарем, пыталась избежать неловкости.
1 : 1.
Зачем?№3 и Зачем?№4
Я не знаю зачем классе этак в 4-м специальной музыкальной школы при Консерватории в Свердловске мы с товарищем, рыжим хулиганом с оттопыренными ушами Игорем Пономарёвым, пошли в Горсовет – величественное здание на главной площади Свердловска, построенное пленными немецкими солдатами – и затопили мужские туалеты на двух этажах так, что протекли потолки.
Оба мы выглядели вполне благонадёжно в пионерских галстуках – всем пионерам в обязательном порядке полагалось носить галстук – не вызывая ни малейшего подозрения.
Проникли мы в правительственное учреждение под видом собирающих макулатуру
(в то время школьников обязывали собрать какое-то определенное количество бумаги для нужд народного хозяйства. Как и металлолом, кстати).
Чёрт его знает, на кого мы могли напороться тогда с нашим детским хулиганством. Желающих обвинить в идеологической диверсии было достаточно. Слава Богу, сумели унести ноги.
Но переполох в горсовете был.
А с другим моим товарищем из класса Алёшей Скворцовым приблизительно в то же время мы как-то украли пену для мытья ванн в одном универмаге и тут же отправились в другой, где я вылил её в карман вывешенного для продажи костюма.
Но на этот раз избежать карающей руки закона не удалось. Нас поймали и увезли в милицию.
Оттуда меня забирали тётя и брат.
Тот самый, с которым мы вместе росли на шкафу...
Реплика
Цивилизация вызывает у разных людей разные чувства, в том числе, скепсисЯ весьма скептически настроен по отношению к современной цивилизации..
Но человекя слаб. Как приятно ездить на каком-нибудь Мне нравится ездить на моём BMW, я люблю путешествовать
во вселенной всемирной компьютерной сети, красиво одеваться...а уж как мне нравятся тряпки..
Я тряпишник, готовый ежедневно менять наряды - как девушка - чтобы каждый день представать перед видящими меня новым, не похожим на меня вчерашнего..
Но почему мне так грустно?
В заскорузлом советском обществе нам внушали: человек, не соприкасающийся с культурой, неотёсан в общении, невоспитан и груб.. И мы соприкасались.
Нужно было ходить в театры и музеи, посещать концерты, чтобы быть цивилизованным.
Но тогда почему десятки и сотни тысяч людей, живущих в современном технократическом мире и никак не соприкасающихся с достижениями культуры - утром на работу, вечером к телевизору - столь вежливы, вкусно пахнут, так аккуратны и социально адаптированы?
А нам говорили, для этого нужно слушать Малера и любоваться Модильяни...
Вот что приводит подчас меня к к печальному выводу о всеобщем существовании
в посткультурном мире...
Эта колокольня сведет меня с ума.. Четверть часа – один раз, полчаса – два раза, три четверти – три.. И так три месяца. О, Господи..
Ближе нас к церкви никого нет. И как назло дождь, дождь, дождь..
Я парю между реальностью и сном. Сон, что кино. Хочется устроиться поудобнее, как в кинозале, и раствориться в сюжете.
Любовь и ботинки
Близилось первое сентября, начало нового учебного года. За год до этого в классе появилось пополнение. Их было несколько человек, окончивших обычные музыкальные школы и поступивших в нашу, таким образом определив своё намерение стать профессиональными музыкантами. Среди них была и Она. Весь прошлый год новички не посещали общих школьных предметов, а только музыкальные, потому и виделись мы друг с другом не так часто.
Но в ночь на четырнадцатое августа 1977 года Она мне приснилась.
Это был один единственный «кадр» - Её голова с убранными назад волосами.
Одного этого было достаточно, чтобы понять: я не могу без Неё жить.
Нужно было каким-то образом дотянуть до первого сентября. Пожалуй, это и было самым трудным теперь.
Иногда мне кажется, что причина вспыхнувших чувств - сама любовь, живущая в нас, а вовсе не люди, в которых мы влюбляемся. Любовь зреет, она ищет выхода, и, в конце концов, находит сама объект своего воплощения.
Вот так и поймешь смысл русской поговорки «любовь зла, полюбишь и козла».
Ну разве может козёл вызвать влюблённость в себя? Дело не в козле. Это любовь бывает зла. Она ждет.
Тем летом я вернулся из Ленинграда, где впервые был на каникулах у Буси, а не у них двоих. Коти не стало в апреле. Его сердце не смогло выдержать очередного инфаркта.
Буся меня одевала. А я с детства любил модничать.
В то лето она купила мне ботинки фабрики «Скороход» из красно-жёлтого кожезаменителя. По замыслу дизайнера они должны были отдалённо напоминать вошедшие тогда в европейскую моду туфли на платформе, в которых и у нас за железным занавесом щеголяли счастливчики, сумевшие правдами и неправдами «надыбать» дефицитный товар.
Надо сказать, я настолько плохо рос тогда, что подошел к девятому классу будучи ста пятидесяти шести сантиметров в высоту.
Ситуация с ростом становилась тем более драматической, что вокруг меня всё бурно развивалось и созревало. Одноклассники становились юношами и девушками,
я же оставался мальчиком с тоненьким голоском и тридцать шестым размером ноги.
В ситуации неожиданно родившейся в сердце большой любви ботинки были как нельзя кстати. У них была толстая подошва. Я становился сантиметра на три выше.
С приближением первого сентября волнение моё в предвкушении встречи с Ней возрастало. Нет, это не было влюблённостью, это был ураган чувств.
А ураганы, как известно, сносят крыши. Так произошло и со мной.
В горячечном состоянии я изобрел способ стать выше ростом.
Несчастный! Я и не ведал тогда, что обрекаю себя на два года мучений.
Ботинки были высокие, осенне-зимние. Внутрь можно было подложить еще что-то, чтобы стать повыше. Откопав где-то старую сношенную обувь, я срезал с неё каблуки и положил их по одному в каждый из моих новых ботинков.
Примерка продемонстрировала заметный эффект - я стал выше сантиметров этак на шесть, а то и семь.
Предстать пред очи любимой таким было уже не столь мучительно.
В первый день нового учебного года я получал комплименты как изрядно подросший за лето, хотя по-прежнему продолжал смотреть на соучеников снизу вверх. Но расстояние, благодаря моему летнему изобретению, все же несколько сократилось.
В первый же день после занятий я тащился вслед за Ней – Она шла с подружкой, я стеснялся приблизиться. Пришлось довольно долго ждать, пока они нагуляются, насидятся на скамейке в парке и, наконец, распрощаются.
Тогда и состоялось историческое объяснение в любви у водосточной трубы, спускавшейся с крыши её дома.
Ни о какой взаимности тогда не могло быть и речи. Но и остановиться в ухаживаниях было невозможно.
Невозможно было остановиться и в росте, вернее, в процессе дальнейшей его имитации. Количество каблуков в ботинках умножалось. И без того субтильная моя фигурка, в этом вытянутом виде производила впечатление всё более и более странное – ноги, растущие из головы. Непропорциональная в отношении всего остального тела их длина, а также становившаяся всё более неестественной походка, вызывали настороженные взгляды и пересуды.
Наполненные доверху каблуками ботинки протестовали. От вздыбленного подъёма ноги разорвались шнурки. Их заменила толстая бельевая верёвка. Длины брюк не хватало, чтобы в момент, когда садишься, не выдать торчащих поверх ботинок пяток. Мной была разработана целая система ухищрений, помогавшая скрыть обман.
В ботинках, превратившихся в настоящие ходули, я не только научился педализировать на рояле, но и танцевал на школьных дискотеках, задевая своими тонкими неестественно длинными ногами окружающих.
Опасность подстерегала в выходные дни, когда давал ногам отдохнуть и когда можно было встретить одноклассников на улице. В таких случаях я вспрыгивал на паребрик, или, наоборот, спускался на ступеньку вниз – лишь бы не оказаться с собеседником на одном уровне – тут разоблачение было бы неминуемым, ведь «подиум», на котором я передвигался, достиг пятнадцати (!) сантиметров.
Еще более опасным было ходить в гости. Обувь, выпачканную уличной грязью, принято было снимать. Я не снимал.
Любовь не отпускала меня. К тому времени наши отношения были серьёзными настолько, что дошло до поцелуев в Её подъезде. И даже когда в начале следующего учебного года Она сказала, что не любит меня, я продолжал, как принято говорить, жить надеждой.
В начале одиннадцатого класса чувства начали ослабевать.
Количество каблуков в измученных ботинках ленинградской фабрики «Скороход» постепенно уменьшалось.
Я стремительно рос.
Такого длинного лета, как первое наше лето в Германии, еще не было.
Разве что три месяца летних каникул в школьные годы, да и то, в специальной музыкальной школе-десятилетке июнь, начиная со средних классов, был учебным.
Жизнь остановилась, как самолет перед разбегом. Предстоял ли нам взлет?
И если да, то в каком направлении жизни?
Вакуумное состояние лагерного бытия мы мужественно пытались скрасить занятиями на пианино в школе и немецким в нашей комнате.
В Петербурге, из протеста против нашего решения переехать, четырнадцатилетний Игорь отказался учить немецкий язык. Теперь мы учили сами – благо, грамматика была нами уже почти полностью освоена, подтягивали его и еще одну соседскую девочку.
Мама той девочки, взбалмошная еврейка из Омска, строила наполеоновские планы на будущее своей семьи. Она сочиняла небылицы о некоем добродетеле – её знакомом, заплатив которому определённую сумму денег, можно получить любую работу в Германии. Тронутая нашей заботой о её дочери, от избытка недолговечных чувств, она вдохновенно обещала помощь и в устройстве нашей дальнейшей судьбы.
Вдохновение улетучивалось так же быстро, как и посещало её.
Муж этой творчеcкой особы согласно плану должен был стать единственным русскоязычным адвокатом в Ганновере (их пруд пруди), и вообще она почему-то всё время собиралась «выдвигаться на юг». Само слово «юг» звучало в её устах как-то почти магически.
Так и говорила: «Надо выдвигаться на юг».
Другие наши соседи - причудливая пара мама с сыном откуда-то из Киргизии.
Сына я нечаянно заставал в самых неожиданных местах маниакально занимающимся физкультурой. Еще он изучал немецкий язык весьма оригинальным способом – переписывал словарь. К моменту нашего знакомства шла переписка уже семьдесят шестой тысячи слов. Но фразы на нечастые случаи общения с местными жителями, тем не менее, ни из семидесяти шести тысяч, ни просто из шести слов не возникали. Поэтому предложения составляли ему мы. Мама его запомнилась золотыми зубами и чёрными рейтузами в любую погоду.
Были и другие «товарищи по несчастью», жившие рядом. Всех не помню.
Кто-то приехал вместе с мебелью, кто-то пытался делать гешефты прямо там среди солагерников.
Молодая парочка из Молдавии, проводившая в душе время несколько более продолжительное, чем необходимо для личной гигиены, и выходившая оттуда радостная и распаренная, не раз предлагала нам «выгодно купить» какие-то предметы «первой необходимости».
А я никак не мог взять в толк, почему российские средства массовой информации того времени были так озабочены проблемой «утечки мозгов».
Быть может, мне просто не повезло, но лично мне не пришлось увидеть среди тогдашнего нашего окружения ни одного «утекающеготекущего мозга»...
Лето разгоралось. Начиналось время удобрений.
Едкий их запах вызывал тошноту.
Церковная колокольня неумолимо звенела каждые пятнадцать минут.
Н.Е.
Натана Ефимовича я впервые увидел стремительным, будто летящим по коридору в направлении десятого класса во втором этаже Санкт-Петербургской, тогда Ленинградской Консерватории.
В этом классе преподавал его учитель профессор Леонид Владимирович Николаев, бывший также учителем Софроницкого, Юдиной, Шостаковича, Серебрякова и других выдающихся музыкантов.
Это было двадцать седьмого апреля 1980-го года.
Моей судьбе предстоял крутой поворот.
К Натану Ефимовичу меня привезла мама. Я должен был сыграть ему программу, подготовленную к вступительным экзаменам в Консерваторию, а он мне – сказать, могу ли я рассчитывать в случае, если поступлю, попасть к нему в класс.
Обычная практика в нашей профессиональной сфере.
Скажу сразу, я не понравился ему тогда. Мои провинциальные представления об игре в целом - о выразительности, о темпераменте – не могли вызвать интереса.
Я уезжал из Ленинграда обратно в Свердловск удручённым, хотя и получил предложение Натана Ефимовича приехать в будущем году еще раз и показать, что мне удалось сделать.
Ровно через год я приехал опять и вопрос о моём приеме был решён.
В сентябре 1981-го года я стал студентом легендарного Перельмана.
Разве мог я знать тогда, что встреча с ним станет благословенной и превратится – нет, не в дружбу - в любовь, настоящую взаимную любовь Учителя и ученика.. что мне предстоят двадцать долгих лет счастья быть рядом с ним - до того последнего слова, которое он выдохнет мне в ухо за три дня до смерти в палате Военно-Медицинской Академии в 2002-ом году..
Сами по себе двадцать лет уже были чудом.
Ведь в класс к Натану Ефимовичу я попал, когда ему было семьдесят пять.
Вот и пришло время вспоминать Вас на книжных страницах, дорогой мой Учитель. Как я бежал от мыслей о том, что время такое когда-то настанет!
Как внутренне дрожал от того, что Вам уже семьдесят пять, а потом восемьдесят, девяносто, девяносто пять..
В Консерватории я просил судьбу дать мне возможность у Вас доучиться. Но произошло большее - Вы заполнили мою жизнь до такой степени, что сами стали ею, моей жизнью.
Дело было уже не только в музыке. Я полюбил то и тех, что и кого любили Вы.
Мой каждый день был связан с мыслями о Вас и реальным общением с Вами.
Я мог в любой момент открыть своим ключом дверь Вашей квартиры в старом петербургском доме на Чайковского 16, летом приехать к Вам в Латвию, ночевать с Вами и Вашим сыном в снятой Вами комнате с окнами в сад, где цветёт жасмин. Слушать во время наших долгих пеших прогулок по Ленинграду увлекательные рассказы об истории уходящего века, участником которой Вы были – о встрече с Пастернаком, о дружбе с Гилельсом, о Шостаковиче, о Глазунове, который так лестно, оказывается, отзывался о Вас – теперь я читаю об этом в книжках.
Ваша встреча с президентом Тито, беседы на прогулках под Варшавой
с Антоновым-Овсеенко... Вашу фотографию с ним я бережно храню.
Как и множество историй, которые Вы доверили мне одному.
Я храню Вас.
Каждый день моей жизни.
С собой в Ленинград я привёз комплекс провинциала.
Всё казалось мне здесь не таким как в Свердловске. И все не такие – лучше меня.
Сокурсники виделись мне гораздо более умелыми, чем я, да и адаптация в условиях нового коллектива была нелёгкой. И дело не в коллективе, а во мне.
Так было всегда. В детстве предстоящее новое знакомство часто вызывало испуг и даже слезы. Оставаться в привычной «скорлупе» куда уютнее и сейчас.
Одиночество первых месяцев учёбы в Консерватории было, тем не менее, благотворным. Оно позволяло лучше сосредоточиться на собственных занятиях, что было немаловажно, ведь Натан Ефимович только приглядывался ко мне и поначалу был в отношении моей персоны весьма сдержан.
Давление же профессиональное с его стороны было велико, и забыть первые мучительные уроки в присутствии слушателей Факультета повышения квалификации, коими класс наш бывал переполнен, словно автобус в час пик, невозможно.
Количество людей не производило на Учителя никакого впечатления в том смысле, что не являлось поводом устроить из урока представление, чем грешили многие известные педагоги, в том числе, по рассказам очевидцев, и гениальный Нейгауз, у которого Натан Ефимович обучался в Киеве в 20-е.
Мой Учитель мог часами работать над небольшим эпизодом, над крошечной деталью, доходить в работе до элементарных «школьных» подробностей, и это было особенно дискомфортно для студента, учитывая присутствие в классе многочисленной профессиональной аудитории.
Все же я находил что-то очень ценное для себя в роли провинциала в большом городе. Мы были один на один. Нам нужно было «снюхаться» - мне и по-новому представшему мне пространству, к осени становившемуся совершенно другим,
чем точем- то, которое явилось мне летом 1977-го - именно тогда я понял, что Ленинград больше не отпустит меня.
Теперь он показывал мне свой нелёгкий характер. Сырость, ветер, темнота и я один.
А по выходным, когда закрыты учреждения и магазины, он беден и пуст.
И я бреду по лабиринтам грязных облупленных «достоевских» кварталов и узнаю дома, дворы и подворотни, описанные в его романах.
Петербург, как вся Россия. Если Вы поднялись на колоннаду Исаакиевского собора, то с одной стороны Вам слепит глаза сверкающая золотыми шпилями и куполами набережная Невы, а с другой, напротив, взору предстают серо-коричневые зигзаги с дворами-колодцами внутри.
Блеск и нищета.
Наверное, никогда в своей жизни я не посещал с такой интенсивностью концертов и театральных спектаклей. Многое из увиденного и услышанного тогда сегодня уже история. Кое-что – незабываемо.
Бытовую сторону жизни определяла коммунальная увартираквартира, где мы с Бусей – стар и млад – жили в наших двух пеналах. Заниматься я мог дома – папино гэдээровское пианино еще выдерживало масштабные произведения классиков.
Впрочем, как и соседи.
Буся, к тому времени почти слепая на почве диабета – результат пережитой смерти сына – сидела рядом на старом диванчике и слушала мою игру.
За окном грохотала старыми трамваями площадь Репина.
Близился счастливый момент отъезда из лагеря. Мы нашли маклеров – ушлых ребят откуда-то с Украины. За «скромные» тысячу марок они сосватали нам трехкомнатную квартиру в районе Лист города Ганновера.
В лагере нас держали долго. Комендантша объясняла это тем, что нам еще не дали вид на жительство, а без него, понятно, самостоятельная жизнь без присмотра невозможна. Позже выяснилось, что вид на жительство давно готов, а уж зачем нас «мариновали», одному Богу известно.
И вот переезд состоялся. Со всем имуществом – тремя чемоданами – мы прибыли на новое место.
Помню первый ужин в нашем новом, совершенно пустом жилище.
В темной кухне (не было ни одной лампочки) на постеленном поверх кафельного пола одеяле, с бутылкой вина и нехитрым съестным – мы хохочем.
С новосельем!
Привыкание к Ленинграду – процесс тяжелый. Хотелось домой.
Там легче дышалось, да и пощеголять перед бывшими соучениками эдакой столичной штучкой – приятная мелочь. В первые месяцы, да и годы моей ленинградской жизни я использовал любой повод для отъезда в Свердловск.
Способствовало этому определённое количество придуманных коммунистами идеологических праздников, превращавшихся, благодаря примыкающим к ним выходным дням, в небольшие каникулы.
В начале ноября 1982-го года я полетел в Свердловск. Седьмого ноября страна праздновала шестьдесят пятую годовщину Великой Октябрьской революции.
Седьмое ноября было уже позади, а я все еще был там, отогревался рядом с мамой и моими тогда семилетними сестрами-близняшками, ходил к дедушке с бабушкой на долгие беседы, встречался с братом и тётей.
Но одиннадцатого ноября в городе началось смутное шевеление, причины которого никто не мог понять. Начальство вызывалось к вышестоящему начальству, говорили, что ночью собирали войска и что-то важное сообщали. По радио с утра звучала симфоническая музыка, по телевизору показывали балет и пейзажи русской природы.
Как всегда в нашей стране, ничего не ведало только население, почему и было охвачено беспокойством.
Я зашёл в консерваторию повидаться с бывшими соучениками.
Случайно в консерваторской столовой встретил жену моего бывшего профессора и спросил, не знает ли она, что случилось. «Говорят, главный дуба дал», - был её ответ.
Главным в то время был разрушенный бурной жизнью и уже не живший, а влачивший из последних сил остатки своих дней Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев.
Новость была сокрушительной. Смена власти в нашей стране всегда была предвестником перемен. Какие перемены ждали нас теперь?
Большинство ждало «закручивания гаек».
На лестнице Уральской консерватории встретился один из комсомольских активистов. Он возвращался из вышестоящего партийного заведения, куда их всех тогда вызывали. Его спросили: «Что случилось?».
«Что случилось, что случилось.. Леонид Ильич умер. Вот что случилось!», - в его голосе слышались слёзы. Спрашивавшие с трудом сдерживали смех.
Циничной власти воздавали сторицей..
Так и мы втроём, я и мои друзья, ныне известные московские актёры, любимые мои
Юра Лахин и Лена Борисова, и я глубокой ночью в комендантский час, объявленный по случаю кончины «вождя», на пустынной улице возле их дома в Свердловске не хохотали, а именно умирали со смеху от собственной же словесной эквилибристики.
Впереди была неизвестность.
Не забыть
На брюзжание отечественных интеллигентов по поводу состояния дел в родной стране я всегда отвечаю вопросом: а кто сказал, что эта страна для нас?
Нет, я понимаю, страна должна быть для всех. И все же..
Других как было, так и будет больше.
Нелепо, занимаясь академической музыкой, претендовать на стадионы кричащих фэнов, что вполне нормально для любой, даже самой завалящей эстрадной персоны. Так же и здесь.
Ильин писал: интеллигенция идейна и беспочвенна.
Беспочвенна.. Ни здесь, ни там нам не дано это уютное ощущение себя в своей тарелке. Своя тарелка сама по себе не представляется нам уютной. Что уж говорить о чужой..
Советская жизнь соединила всех со всеми. Прервала связь времен.
Смешала исторические эпохи по-разному существующих во времени общественных слоёв. Разрушила жесткую, но мудрую четырнадцатиступенную табель о рангах.
Каждый смог входить в жизнь каждого и устанавливать свои, диссонирующие представлениям других, правила.
Так происходит в процессах межнационального, межгосударственного непонимания – конфликты цивилизаций, формально существующих в одном и том же году.
иИ неформально – в разные исторические эпохи.
Так происходит и в частной жизни. Так произошло в моей. Нашей с мамой.
Никогда не забуду обид и унижений от Чужого человека. Никогда не забуду рядом существовавшее чуждое и злое.
С годами обида поростает быльём.
Остаётся брезгливость..
Германия – прекрасная страна. Открыв двери для огромного количества желающих здесь поселиться, немецкое государство берет на себя ответственность поднять человека на ноги, дать ему то первое необходимое, что позволит начать путь в интеграцию.
Этот минимум в немецком понимании был для многих приехавших максимумом в советском.
Для нас, во всяком случае. Потому что бедность наша, связанная с болезненными переменами в российском обществе, была почти предельной. И это несмотря на профессиональную востребованность.
Юля до сих пор благодарно вспоминает трамвайного контролёра, простившего им с маленьким Игорем бесплатный проезд поздним вечером на питерской окраине, где мы жили. Когда она показала свой пустой кошелёк, он просто махнул рукой.
Человечный попался. Бывали и другие..
И тем не менее я убежден: материальных проблем нет. Есть психологические. Слабенький человечек, если у тебя «Трабант» (о машине ты когда-то и мечтать не смел), а у соседа Фольксваген, ты уже готов объявить себя бедняком.
И готов оплакивать свою «неудавшуюся» жизнь.
Когда-то и мы были глубоко несчастливы в коммуналке, но у нас была крыша над головой. У кого-то не было. С точки зрения этого самого «кого-то» мы счастливчики.
Вообще, удивительна мне потребность человека «устраиваться».
Многие посвящают этому наивному занятию целую жизнь. Устраиваются так основательно и вдохновенно, как будто впереди вечность. При этом каждому из «устраивающихся» известен факт неминуемого конца.
На одной из маленьких улиц Висбадена в витрине похоронной конторы трогательно выставлен роскошный гроб – реклама услуг и милое напоминание о «будущем жилище».
Дед не устраивался. Натан Ефимович не устраивался. Моя мама тоже не устраивается.
Обретение квартиры в Ганновере после «хождения по лагерям» было счастьем.
Мы одни! В небольшом, но удобном трехкомнатном пространстве.
У нас милые пожилые соседи. Видя наши пустые стены, они приносят в подарок домашнюю утварь, интересуются нашей жизнью, рассказывают о своей.
Говорить по-немецки все ещё мучительно неловко.
Это мерзкое ощущение вываливающихся изо рта корявых обрубков окрашенных в неправильное произношение фраз. Ужасно стыдно быть не способным выразить себя таким, каков ты есть в действительности. Вот оно - «средство от высокомерия».
Это ты, ты - «известный петербургский музыкант» - краснеешь теперь от напряжения и стыда перед собеседником. Такой светский, казавшийся себе таким красноречивым и остроумным, выдавливаешь по слову в минуту.
Говорить правильно нужно на любом языке. Не разделяю узко-практического взгляда на язык как средство коммуникации. Очень многие эмигранты исповедуют точку зрения «говори, не бойся, лишь бы поняли».
«Лишь бы» не устраивало. Так учила нас в Петербурге учительница немецкого.
Так думали и продолжаем думать сейчас мы сами.
На курсы немецкого языка под названием «Arbeit und Leben» мы пришли неплохо подготовленными. Занятия в Петербурге и языковые тренировки монотонного лагерного лета не прошли даром. Хуже дело обстояло с телевизионными передачами, разговорами по телефону и вообще, всем, что «на слух».
Помню незамысловатый трюк, который я проделывал с моими родными, переключая немецкую телевизионную программу на турецкую. И ждал реакции.
В то время она наступала далеко не сразу.
Организованные не Вами сообщества составляют люди, которых Вы не выбираете. Так было в армии, в коммуналке, так было в лагере и вот теперь на курсах немецкого языка в Ганновере. Всех обучающихся в группе объединяла одна формальность – дипломы о высшем образовании. Всё остальное объединяло далеко не всех со всеми.
Удивительно, но абсолютным большинством предоставленные государством блага – оплачиваемые квартиры, деньги на пропитание, курсы языка – не только воспринимаются как должное, без малейшего оттенка благодарности, но и вызывают критику. Недовольство многими из «курсантов» слишком высоким темпом преподавания приводило к конфликтам с педагогами и сокурсниками, более подготовленными и посвящающими своё время не выбиванию дополнительных льгот у социальных ведомств, а серьёзному изучению языка как основы новой жизни.
Эта советская готовность унижать себя попрошайничеством – эхо прошлой бедности – гоняла людей по кабинетам с просьбами выдать телевизор или оплатить няню великовозрастным детям; мгновенно «сдувала» с занятий на радостное известие о распродаже йогуртов по бросовым ценам в соседнем продуктовом магазине.
Некоторых застукали на воровстве куриц и видеофильмов.
Лихорадочные поиски выброшенной кем-то старой мебели, компьютеров, любых иных предметов быта занимали мысли и время наших сограждан. Было стыдно.
Тогда же в нашей жизни произошла большая радость. И тоже из разряда материальных приобретений. Мы купили пианино.
Заботливый Шик добился серьёзной скидки. Он же посоветовал купить пианино, на котором можно и в наушниках играть.
Гениальное японское изобретение для охраны покоя граждан, живущих по соседству! Прекрасный акустический инструмент, превращающийся простым нажатием педали в электронный с сохранением естественных звуковых особенностей.
На инструмент были потрачены все оставшиеся деньги от продажи петербургской квартиры.
Оставалось порядка пятнадцати марок, на которые было куплено хорошее красное вино для «банкета» на троих по столь радостному поводу.
В том же 1982 году ровно через месяц после Брежнева умерла Буся.
За несколько месяцев до её смерти в одном из наших «пеналов» упал потолок – не выдержала старая ленинградская, а может еще петербургская штукатурка.
Угроза надвигалась давно. Она годами ползла глубокой трещиной по диагонали комнаты, но никто из нас не придавал этому должного значения.
Удар был сокрушительной силы. Белое Бусино лицо в тот момент я запомню навсегда.
Думаю, проишествие то приблизило её конец.
Всю ночь с девятого на десятое декабря она просидела, держась за сердце, но не разбудила меня (деликатная - как можно! – на следующий день мне предстоял учебный концерт в Консерватории).
Наутро я вызвал скорую помощь, позвонил дяде.
Врач скорой помощи сделал укол, после которого все покатилось, как снежный ком.
Она стала отчаянно задыхаться. Приехал дядя, мы погрузили Бусю в машину уже второй, кардиологической скорой и увезли в больницу.
В больнице очень скоро всё было кончено. Ей было семьдесят три года.
Вечером я играл концерт. Играл хорошо. Взволнованный Натан Ефимович насильно кормил меня валидолом.
Через три дня, накануне похорон Буси, мне исполнилось двадцать.
Вдвоём с мамой, приехавшей из Свердловска, мы выпивали за мой юбилей, сидя за поминальным столом.
Я остался в наших с Бусей «пеналах» один.
В то время как в 1970 году Канцлер Вилли Брандт преклонял колени перед памятником Варшавскому гетто и произносил слова покаяния, в моей стране, победившей юдофобский нацистский режим, антисемитизм оставался повседневностью.
Официальным он не был даже при Сталине, планировавшем выселение евреев на задворки страны. Он бытовал. И уходил традицией своей гораздо глубже, чем сталинщина, в целом «комунистщина» и прочая дрянь.
Антисемитизмом были поражены и русские интеллектуалы, в том числе и некоторые всем хорошо известные литературные классики.
Но бытовая нелюбовь к евреям в развитом социалистическом обществе вряд ли имела общее с идеологическими концепциями.
Не любили интеллигентов, вообще «образованных».. Без всяких там теорий.
Евреями часто называли тех, кто « в очках и шляпе», «не от мира сего».
«Будь проще и к тебе потянутся» - ставшая слэнгом идиома была знаковой.
По дороге в школу какой-то полупьяный мужик брезгливо назвал меня евреем – мне было лет одиннадцать – двенадцать, а я помню это и сейчас.
Вопрос нашего семейного еврейства был болезненным, несмотря на вмешавшуюся в нас с братом русскую и белорусскую кровь. Тема пронизывала нашу жизнь.
Дед Арон Абрамович так и остался Ароном Абрамовичем до гробовой доски.
Но дочерям своим для безопасности навязал другое отчество, и обе стали Аркадьевнами. Он знал, где жил.
В школе я скрывал имя и отчество деда. Я стыдился.
Ну разве стыдился бы я, тогда ребёнок, имени и отчества любимого мной человека, если б это не было стыдно в моей стране «пролетарского интернационализма», быть Ароном Абрамовичем?
Почему при выборе национальности в паспорте, обязательный атрибут которого пресловутая пятая графа, Вы из двух вариантов, как в моём «полукровном случае», выбираете «русский»?
Помню, дед, занимавшийся оформлением наших с братом первых паспортов, поддразнивал, «угрожая» записать евреями.
Одним из мелких сюжетов моей жизни было письмо простоватого русского паренька, сообщавшего матери в письме о женитьбе на еврейке.
Сама по себе необходимость упоминания о национальности женщины, с которой связываешь судьбу, примечательна.. Полуграмотная мама из далёких тихоокеанских окраин страны, решив подбодрить сына, писала:
«Ничего, сынок. Они тоже люди..».
Всё-таки отдавала должное - люди.
Тоже.
Как ненавидел это дед! Как подробно он знал эту ржавую идеологию, ищущую виноватых, унижающую людей за картавость и горбатые носы..
За их имена и отчества. За «международные сионистские заговоры». За «ненавистный» Израиль, воюющий с нашими друзьями, арабами.
Интересно, что в посткоммунистические девяностые бывшие антикоммунистами ультраправые тоже предупреждали о заговоре. Только назывался он теперь несколько более откровенно - «жидо-масонским». Кто такие масоны, никто из граждан в один присест демократизировавшего себя общества не знал.
Зато слово «жид» было родным с детства.
И ситуаций комических было хоть отбавляй - сколько мы видели «исааков менделевичей гохманов», русских по паспорту!
«Бьют не по паспорту, а по морде», - ликовал советский антисемит. Бывало, и били.
Не по паспорту.
В пятидесятые годы Натану Ефимовичу, к тому времени пианисту в зените славы, были закрыты концертные залы столичных городов. Не выступать он не мог и платил нанятому администратору за организацию концертов на перифeрии.
Лицо деда багровело: « Я ненавижу тех, кто определяет отношение к человеку по национальному признаку», - он был открыт всем.
И не ответил русским за антисемитизм русофобией. И не страдал комплексом еврейского превосходства – встречались мне и такие люди, и даже сообщества людей. Они гордились тем, в чем не было их заслуги – национальностью.
А Равиль Мартынов, талантливейший дирижер, с которым меня счастливо свела профессиональная судьба, жгуче-чёрный татарин, тоже испытавший на себе националистические настроения, говорил про борцов за чистоту крови:
« У них одна национальность – бездарность.».
Цитата из лекции по истории коммунистической партии Советского Союза в Уральской консерватории, 1980-й год:
«...Членами ленинского правительства были Троцкий (Бронштейн), Каменев (Розенфельд), Свердлов – еврей, именем которого назван наш город».
No comment.
Мои поезда
Сложность начинать жизнь в новой стране заключалась не только в необходимости говорить и понимать на чужом языке, адекватно вести себя, не нарушая правил существования и сосуществования в тогда еще совсем не знакомой нам Германии. Сложность была в абсолютной перемене деятельности.
Человеку, десятилетиями привыкшему каждый день утром сидеть за роялем, играть концерты, куда-то ездить, что-то организовывать, новая жизнь опускалась на плечи тяжёлым свинцовым однообразием чуждых непривычных дел.
«Самоощущение артиста» стиралось как будто насильственно. Нужно было сопротивляться.
Ежедневное в течение полугода посещение восьмичасовых курсов немецкого языка выбивало из под ног привычную «табуретку». «Повиснуть» было легко. «Повиснуть» было нельзя.
Слава Богу, гастрольные планы, сбитые до переезда, оставались в силе.
Поздней осенью я поехал на концерты в Данию.
Впервые ночным поездом за границей.
Волшебно! Двери купе бесшумно открывались и закрывались. Улыбавшиеся, безупречно одетые проводницы скользили между пассажирами, бельё было ослепительно белым. Поезд на огромной скорости шуршал в направлении Копенгагена.
Я не слышал привычного стука колёс.
Запах вокзалов я помню с детства. И воспоминание о вокзалах всегда связано с большим количеством суетящихся людей, грязью и усталостью оттянутых чемоданами рук..
Как уютно мы путешествовали в купе на четверых с дедом, бабушкой и братом!
Как было вкусно в поезде то, что не казалось вкусным дома, как вообще привычные вещи приобретали иной окрас в твоем временном передвигающемся жилище.
И вожделенная верхняя полка – борьба за неё доводила нас до ссор - ну не спать
(а старшие, из страха перед ночным падением детей сверху, спать наверху не разрешали), так хотя бы днем посидеть, или полежать там.
В детстве было много поездов. С Бусей, дядей, папой и мамой мы ездили к Чёрному морю. С бабушкой совершили путешествие из Свердловска в Ленинград, оттуда в Москву и обратно в Свердловск. Тогда я впервые увидел Ленинград и Москву, а в ней - Ленина в мавзолее!
Моими поездами были и поезда между Ленинградом и Москвой в студенческие времена. Скидка для студентов удешевляла билет в два раза, и в неудобном плацкартном вагоне Вы могли совершить путешествие в Москву и обратно всего за десять рублей.
Что я и делал.
В летние месяцы переполненные поезда атаковались желавшими уехать на них безбилетниками. Проводника, как правило, можно было подкупить и проехать в его купе, или на полке для багажа. Так однажды я ехал на узкой багажной полке, прячась от бригадира поезда под одеялом, из Ленинграда к Натану Ефимовичу в Латвию, где он многие годы отдыхал в Саулкрастах на Рижском взморье.
Случались и переезды в поездах между пунктами гастролей.
В нищие девяностые российские антерпренёры часто экономили на гастролерах и впихивали несчастных в грязные плацкартные вагоны, где приходилось спать на боковой полке рядом с протекшим всем своим содержимым туалетом.
Как-то с дядей вдвоём мы путешествовали в Екатеринбург на поезде.
К тому времени я жил уже в Германии. В Екатеринбурге меня ждали концерты, дядя ехал повидаться со старыми школьными друзьями.
Устроились мы роскошно – в спальном вагоне. За окном трещала зима, мы пили коньяк, беседовали, смотрели из окна «на Родину».
Переезд тот запомнился мне уморительной сценой во время остановки в Перми.
Это было поздним вечером. Стоял привычный с далёкого уральского детства терпкий морозец.
Я вышел купить газеты, а когда возвращался, увидел моего дядю в его длинной барской дублёнке стоящим у поезда и держащим в руках кружку Эсмарха (просто клизму), предназначенную, как поэтично сообщают в рекламе этого популярного в обиходе предмета, «для лечебного орошения прямой кишки и толстого кишечника». Орошения!
Концом шланга от «кружки», залезши под поезд, орудовала проводница нашего вагона.
Выяснилось, что таким способом на отечественных железных дорогах промывают замерзшие отводы туалетов.
Вместе с дядей мы еще долго хохотали над сюжетом, поскольку дядин представительный вид в тот момент, любопытные взгляды проходивших по перрону телезрителей, узнававших его кино-лицо, та сосредоточенность, с которой он проделывал вместе с проводницей операцию «по орошению», отчаянно контрастировали с функцией, которую он выполнял, помогая работнице железной дороги...
Было и одно драматическое путешествие в поезде из Москвы в Санкт-Петербург.
В Москву мы приехали тогда вместе с Вадимом Биберганом для участия в фестивале
в Доме композиторов. Концерт был тепло принят, настроение было прекрасное.
После концерта мы отправились в гости к Владиславу Казенину, председателю Союза композиторов России, близкому другу и однокласснику Бибергана и моего папы.
Вечер в гостеприимном доме был тёплый, по-русски хлебосольный.
В час ночи мой поезд отправлялся с Ленинградского вокзала Москвы обратно в Петербург. К моменту моего появления в купе там уже сидела небольшая компания веселых общительных молодых парней. Позже появилась девушка. Вдохновленный успешным концертом и выпитым у Казениных основным русским напитком, я тоже с удовольствием вступал в беседу и даже угощался предложенным попутчиками почему-то очищеным лимоном.
В какой-то момент меня не стало.
Наутро я проснулся расталкиваемый незнакомыми мужчинами в совершенно пустом вагоне. Ноги не слушались, было не встать. «Вас отравили и ограбили», - только и слышал я расплывающиеся в сознании голоса.
Сильные рослые мужчины подняли меня на ноги. Кофер, верный спутник гастролей,
в котором путешествовал концертный костюм, был вспорот.
Портмоне с московским гонораром украдено.
А в нём – о Боже! – еще и свидетельство о рождении Игорёши.
Не было и ботинок. Грабители ушли в них. Слава Богу, концертные туфли были на месте. Не слишком по сезону – стоял ноябрь – но все же лучше, чем ничего.
Меня вволокли в медпункт Московского вокзала в Петербурге. Медсестра предложила укол. Я отказался - хватило трезвости и в бреду, кто их знает, что они вколят.
Милиция, не обращая внимания на моё «полу-невесомое» состояние, тем не менее принялась за допрос прямо на улице, прислонив мое безвольное тело к грязной вокзальной стене.
Отвезти домой человека «на ватных ногах» никто и не думал. Я дополз до метро и проснулся на одну станцию дальше.
Появление на пороге дома качающегося тела произвело сильный эффект.
На машине скорой помощи я был отправлен в токсикологическое отделение одной из петербургских больниц, где в течение следующих суток лежал под капельницей
в течение следующих суток лежал под капельницей среди наркоманов и наркоманок (отделение токсикологии!) и таких же отравленных, как я сам.
Две палаты, женская и мужская, были смежными. Ночью в полудреме слышались отрывки оживлённых нецензурных бесед и звуки бурных любовных свиданий.
Лежавший рядом кавказец помогал старушке медсестре. Выхватив шприц из её дрожащих рук, он уверенным отработанным движением вгонял содержимое себе в вену.
Я то нырял, то выныривал. В один из таких глубоких «нырков» я вдруг увидел папу, такого же, как тогда, когда мы вместе гуляли зимой - в дубленке и зимней дублёной кепке на меху.
Он крепко схватил меня под руку, и мы заскользили по белому насту..
Наутро я попросил врачей отпустить меня домой. Отпустили сразу.
Доползти до дома самому не представлялось ни малейшей возможности. Слабость. Выручал дядя на машине.
Потом уже, спустя время, я узнал, что, как и моя соседка по купе, был отравлен клофелином, сильнодействующим средством для понижения давления.
У попутчицы той воры сняли с пальца обручальное кольцо. Дурной знак...
Каким-то образом она узнала мой телефон и, позвонив, рассказала, что в милиции были почти уверены, я не перенесу такой передозировки и отправлюсь в иной мир.
Теперь я думаю - а может, это папа вывез меня оттуда по белому насту...
Отравления в поездах в девяностые были прекрасным способом ограбить попутчика без лишних волнений для грабителя. Крепко спящий человек не чувствовал даже если его раздевали догола .
Вот только медицинскими знаниями не все разбойники обладали.
И добавляли жертве в чай, спиртное, или, как в моём случае, шприцем в лимон слишком большие дозы усыпляющих средств. И жертвы были.
Нельзя угощаться в поездах..
Через пару месяцев я снова ехал в поезде. Теперь уже после концертов в Екатеринбурге на концерты в Тюмень.
Попутчики – милая супружеская пара – предложили выпить шампанского за её день рожденья.
Я не отказался.
Зимой я вырвался из Ганновера в Петербург. От прилива сил темнело мутнело
в глазах, внутри все бурлило радостью возвращения.
Все-таки новая жизнь была нам пока – и мне в большей степени, чем Юле – неуютна.
Юля совсем иначе относится к жизни. В отличие от меня, которому всё и всегда не так, она воспринимает жизнь как задание. Некое важное задание, к которому следует ответственно отнестись. Так она существует, последовательно и кротко выполняя заданное. В этой кроткости живет мудрость.
И опять мой холодный неуютный Петербург. Все мои «немецкие» годы я буду приезжать сюда жить. Именно жить, а не на время. И даже если на неделю, то всё равно – жить.
Просыпаться мрачным питерским утром в моей маленькой однокомнатной квартире, получившей в наследство от бывшей, значительно большей, библиотеку, папино пианино, а потом, после смерти Учителя, один из его роялей.
Милое маленькое жилое пространство в Петербурге – мир воспоминаний и предметов, эти самые воспоминания воскрешающих.
Жизнь там и жизнь здесь – два образа, перевоплощение из себя одного в себя другого – не что иное, как способ существования, возможность спасения самого же себя.
Мне тому не хватает меня этого - и наоборот.
А эфемерность, может быть, «литературность» происходящего, дают возможность набрать воздух и нырять в другую жизнь насколько хватит дыхания.
Потому что не вынырнуть нельзя. Иначе...
В русских мечтах о безмятежном мире и тёплом сытном доме мы забываем, что дом там, где укрытие. Мой дом – моя крепость. Дом там, где защищен.
А безмятежному миру крепость не нужна.
В наших бедных советских квартирах – даже коммунальных – был наш дом.
В плохоньком жилище, где отключали воду и электричество, мы чувствовали себя защищенными от злого мира, грызшего нас за пределами жилищ несправедливостью, холодом, грязью... Этот мир граничил с порогами наших квартир, даже лестницы наших подъездов не служили «буферной зоной».
Потому и дом был крепостью.
Пройдите по Амстердаму. Смотрите в окна домов сколько влезет – там нет штор, укрываться незачем.
Прятаться за шторами, всем существом прижаться к родному человеку, потому что завтра всё может кончиться, запираться и отгораживаться – это наша русская жизнь. Какая есть.
Коммуналка
« Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек: два матроса, два солдата, два сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей), затем 1 интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и т. п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 5 комнат на двоих мужчин и двух женщин.»
В.И.Ленин «Удержат ли большевики государственную власть?»
Бусина смерть разделила мою жизнь в коммуналке на два периода, кардинально отличавшихся один от другого. Теперь ответственность коммунального сосуществования с двадцатью проживавшими рядом легла на меня.
Юридически положение моё было сложным. Впрочем, не было никакого юридического положения.
Год с небольшим, прожитый мной вместе с Бусей, был посвящен не только учебе, но и попыткам прописаться в Бусиных пеналах.
Несмотря на зафиксированные в законах права на прописку, бюрократы всех уровней отфутболивали меня даже тогда, когда в их кабинеты вместе со мной входила жена дяди – известная артистка театра и кино. Не срабатывало.
Объяснения в отказе либо не давались вообще, или бумаги швырялись через стол в мою сторону с комментарием «мы таких, как Вы, не прописываем».
Типичное поведение чиновника в то дивное время. И «такой, как я» шел в следующую инстанцию, а затем еще, еще и еще.. Юридических причин для отказа в прописке не было.
Современный Ччитатель, конечно же, задаётся вопросом, почему я не подавал в суд.
Вопрос понятный, но для меня – риторический и иронический одновременно.
В монолитной советской бюрократической системе сторон не было.
Вся она была одной стороной.
Конечно, и судьи, и адвокаты действовали на узком поле тогдашнего представления о праве, но если «таких как Вы» не прописывали, то вряд ли Вам мог помочь суд с адвокатом. Сказано «нет», значит так тому и быть.
Закон, что дышло..
На самом деле, в прописке вот так, без всяких оснований, отказывали в крупных городах. Москва и Ленинград были в то время вожделенными объектами устремлений огромного количества граждан СССР, уставших от тяжёлой жизни на периферии.
Вот и ставила советская власть заслоны жаждущим лучшей участи.
Так я стал человеком без прописки, самовольно занявшим жилплощадь
в коммунальной квартире на проспекте Римского-Корсакова.
Меньше, чем через год, в коммуналке мы начали жить вместе с Юлей.
Выросшей в отдельной кооперативной квартире-хрущёвке (их еще называли распашонками по ассоциации с одеждой для младенцев – одна комната проходная, а из неё, как рукава, в разные стороны две маленькие) , всё в коммунальной квартире казалось ей диким.
Да и как иначе можно воспринимать искусственное объединение ничего не имеющих общего друг с другом судеб, представлений, бытовых привычек..
Уровня чистоплотности, наконец!
Милиционер, разговаривавший по-русски так, что с трудом можно было разобрать, рабочие с соседнего Адмиралтейского завода, инженеры..
Из комнаты рядом с туалетом от удара мужа вылетала в коридор соседка Валя, весившая килограмм двести. Момент падения её огромного тела на паркетный пол можно было сравнить с падением тунгусского метеорита.
Пьяница Миша был извлечён из канала Грибоедова, куда тоже был отправлен ударом одного из собутыльников в разгаре дискуссии. Его жена, другая Валя, маленькая круглая, как шар, женщина, утром стояла в кухне, что-то помешивая в кастрюле и приговаривала: « Ох..скорей бы ночь, да спать лечь..».
В двух комнатах через стенку от нас жили три особы.
Старуха Ольга Александровна, чей муж когда-то согрешил с домработницей,
Валя (третья в нашей квартире, всего Валь было четыре), результат мужнего греха,
и Леночка, которую Валя родила внебрачным способом от случайного человека.
Муж Ольги Александровны давным-давно умер, а Валя и Леночка жили вместе с ней в двух комнатах.
Ольга Александровна была «из бывших». Её благородное лицо и руки выдавали породу, она прекрасно знала литературу, музыку, речь её была не по-сегодняшнему ароматна. Леночка была умственно отсталой. Когда она стала созревать, её вопли «замуж хочу!» слышала не только наша квартира, но и улица сквозь грохот трамваев – так истошно она орала. Валя тихо попивала и курила сигареты.
Когда Ольга Александровна стала сдавать, Валя решила отправить старуху в приют.
Уходя на работу, она запирала Ольгу Александровну на амбарный замок в комнате и та целый день лежала одна без надежды на помощь, случись что..
Когда её не запирали, она, не в силах дойти до туалета, караулила с переполненным ночным горшком хоть кого-то, кто мог этот горшок вынести.
Юля, бывало, помогала ей в этом.
Так и умерла Ольга Александровна, не дождавшись отправки в приют.
Рядом с кухней втроем одной комнате жила семья – он, она и ребёнок - стоявшая в очереди на расширение площади. По тем временам они могли получить пару комнат в другой коммуналке, или даже однокомнатную квартиру.
В 1984-ом году родился Игорь, и наше пребывание в многонаселённой квартире без законных на то оснований плюс желание соседей рядом с кухней жить просторней стали для нашего дальнейшего проживания в коммуналке обстоятельствами роковыми.
Соседи начали кампанию по нашему выселению. Длилась она больше года.
Вот уж воистину, люди лучше всего объединяются «против», а не «за».
Предприятие по изгнанию нас из квартиры временно стало смыслом их существования.
Через трухлявую стенку поздней ночью мы слышали, как они собирались у Вали,
той самой, доведшей старуху до смерти, и писали доносы на нас в различные судебные и жилищно-коммунальные ведомства.
Такие «добрые сказки на ночь» мы получали тогда.
Вскоре начали приходить и судебные повестки. Восемь раз мы вызывались в суд.
На восьмой раз явились, и в присутствии торжественно одетых в лучшее,
ярко накрашенных дам нашей коммуналки и их мужей с серыми от коммунальной злобы лицами, я объявил, что мы добровольно выселяемся.
Вскоре после нашего добровольного отречения соседи из комнаты рядом с кухней отказались от очереди на отдельную квартиру, объяснив это тем, что в отдельной квартире жить скучно, и воцарились в наших пеналах.
Так закончился для меня коммунальный период жизни. Думаю, навсегда.
Впрочем, зарекаться не надо...
С окончанием курсов немецкого языка прекратилось и общение с однокурсниками.
Это был, без сомнения, позитивный факт.
За шесть месяцев ежедневного восьмичасового сидения рядом, часто - непонимания друг друга - мы изрядно устали.
Впереди что-то было. Всегда есть что-то впереди.
Вопрос, что..
Юля, не выдержав вакуума, возникшего после окончания курсов, отправилась работать в библиотеку. Была какая-то разрешённая немецкими бюрократическими ведомствами возможность добровольной и фактически бесплатной работы.
Жизнь все еще была далека от того, чтобы радовать нас. Она все еще не стала нашей. Да и как, собственно? Мы находились в новой стране всего лишь восемь, или девять месяцев..
Уже приезжал дядя, соскучившийся без нас в Питере, уже прошла ганноверская зима, для которой четырнадцать-пятнадцать ниже нуля - суровые погодные условия.
Мы сдали экзамен по-немецкому языку.
К весне Юлю неожиданно вызвали в баварский Регенсбург экзаменоваться в оперном театре на должность оперного концертмейстера.
И опять был переезд, денег не было никаких, а только долги.
Купленную для ганноверской квартиры изрядно подержаную мебель мы, за неимением лучшего, везли с собой в Регенсбург.
Грядущую осень нам предстояло начинать жителями Баварии.
Почти сразу после переезда я опять уехал в Питер. Уехал надолго. Выныривать.
Впервые совершил я тогда путешествие по железной дороге через несколько стран.
Из Германии в Прагу, потом Варшава, где снова пересадка и, наконец, через Белоруссию в Россию.
Помню позднюю остановку в Полоцке. На темном грязном перроне ночные компании матерящихся мужчин и женщин, в маленьком вокзальном буфете продают
«Советское шампанское» за четыре миллиона (!) белорусских «зайчиков».
Причудливое время!
Родина встретила, сразу по переезде границы, голым задом справлявшей нужду женщины в телогрейке и платке.
Стояла поздняя осень.
Предстояло сладкое погружение в прошлое.
Приходящие в нашу маленькую однокомнатную квартирку на Удельной в Петербурге говорят, что теперь уже редко в российской жизни, а уж тем более в крупных городах, увидишь такое «советское» жилище.
Действительно, там «законсервирована» жизнь восьмидесятых-девяностых.
А восьмидесятым многое досталось от семидесятых, и так далее..
Старые Бусины часы с боем, библиотека, в которой среди прочего есть и полное собрание сочинений Сталина, доставшееся мне в наследство от Коти.
Рояль Натана Ефимовича, переселившийся ко мне после смерти Учителя.
Фотографии предков – дагерротипы начиная с конца девятнадцатого века.
Мои предки по линии Коти были церковными деятелями.
В Астрахани они были людьми известными. Вообще, сама фамилия «Пальмов» искусственная, выдуманная семинарская. Видимо, от «пальмовой ветви», которую Архангел Гавриил вручил Божьей Матери незадолго до её Успения.
Дед Коти, мой прапрадед и звался Гавриил. Гавриил Яковлевич Пальмов служил настоятелем Успенского кафедрального собора Астраханского кремля.
Недавно я обнаружил упоминание о нем в дневниках Тараса Шевченко, которому предок мой показывал Астраханский кремль и сам Собор.
Один из сыновей Гавриила, Николай Гавриилович, тоже священник, выступал против навязываемых советской властью в двадцатые годы прошлого века «обновленческих» правил для церкви и изъятия церковных ценностей, спасал служителей церкви
от красного террора.
Сын Николая Гаврииловича Николай Николаевич Пальмов, Котин двоюродный брат – тоже выпускник Духовной семинарии, знаменитый профессор, историк – калмыковед, один из родоначальников исторической науки и архивного дела в Калмыкии.
Его именем назван музей в Элисте.
Помню, Котя очень этим обстоятельством гордился.
Благодаря Советской власти и всем историческим переломам с нею связанным, православная традиция отцовской линии прервалась на Коте.
Обо мне и говорить нечего - я и крещен-то не был.
Иногда вдруг я загораюсь желанием преобразовать моё петербургское жилое пространство, но затем остываю и думаю, это хорошо - уж если хочешь возвращаться в прошлое, надо, чтобы было куда возвращаться.
В этом есть эмоциональное, лишенное каких бы то ни было концепций и даже просто подсознательное стремление продлить жизнь. Ничего в ней не меняя.
Так жил мой Учитель.
Каждый день ровно в 9.00 за роялем. Начиная с 9.30 каждый день звонили одни и те же - несколько человек из любимых учеников.
В 12.00 Натан Ефимович заваривал чай (он с упоением рассказывал мне:
«в этот момент солнце проникает в комнату, и я долго наблюдаю чаинки, опускающиеся в свете солнечного луча на дно стакана в подстаканнике»).
Тогда же часы в его столовой били двенадцать раз. Этот бой часов он традиционно слушал и давал слушать по телефону другому знаменитому профессору Консерватории - Льву Ароновичу Баренбойму (после смерти Баренбойма и я бывал частым и благодарным «слушателем» боя часов).
Затем - обед и обязательный сон после обеда. Вечерние занятия на рояле продолжались до 20-ти, после - ужин. Ровно в 21.00 выходила в эфир программа «Время» - обязательная политическая информация, затем читать и спать.
Я думаю, для старого телом, но искрящегося, фонтанирующего человека, каким был Натан Ефимович, этот способ жить стал попыткой остановить время.
Я убеждён, это ему удалось.
Затормозить движение времени помогла ему мудрость, несуетность и настоящая любовь к Музыке.
«... Правду знает не тот, кто глядит себе под ноги...»
Есть еще одно пространство моей жизни, где хранят прошлое.
Дружба с семьёй Биберганов досталась мне «в наследство» от папы.
С Вадимом Биберганом они учились в одном классе. На книжном стеллаже в нашей петербургской квартирке стоит фотография – отцы-одноклассники с сыновьями.
Все, ныне семидесятилетние, кроме моего папы, живы. Слава Богу! И все состоялись.
На фотографии этой Биберган-старший держит на руках своего Сережку, с которым мы очень крепко с самого рождения связаны. Как и со всей их семьей.
Биберган – известный композитор, яркий, масштабный человек, оказавший на меня серьёзное влияние. И профессиональное, и человеческое.
В том числе, и своим здоровым консерватизмом, неспешностью, уважительным отношением к людям, умением чувствовать чужую боль, справедливостью..
Их с Любовью Васильевной (супругой) дом хранит прошлые традиции и создаёт свои.
В нём, в этом тёплом, «моём» доме хранится всё, что будет историей.
«Остановка времени» символическим образом происходит здесь в Новый год.
Обычно высокая, под потолок, ёлка наряжается старыми игрушками из далёких тридцатых-сороковых, а верхушку её украшает когда-то в детстве сделанная руками самого Бибергана бумажная подсвеченная красная звезда.
В доме хранятся старые любительские кинопленки с уникальными кадрами, письма, в том числе и написанные пяти – шестилетним Биберганом на фронт отцу – отец Вадима Давидовича служил вместе с легендарным маршалом Жуковым и был одним из организаторов «Дороги Жизни» во время Блокады Ленинграда гитлеровцами – магнитофонные записи, уникальные пластинки и книги, многое другое, что позволяет снова и снова оказываться в прошедшем времени.
И делать его настоящим. И не жить только тем, что с формальной точки зрения актуально и целесообразно.
Есть и другие представления об актуальности и целесообразности.
Не практические, не прагматичные.
Человеческие.
Мир стремится себя обустроить, человек ищет комфорта.
Законы целесообразности, по которым живет современное общество, сжимают пространство так называемого нецелесообразного.
Процесс сжатия происходит легко – нецелесообразное хуже сопротивляется.
Ну подумаешь, урезать, к примеру, расходы на культуру.. Делов-то!
Революций не произойдет, массы ни в Москве, ни в Берлине, ни в Париже из-за этого на улицы не выйдут.
Никаких спецподразделений тебе, ни брандсбойты, ни конная милиция не потребуются. Жалкая кучка кровно заинтересованных в реализации своих художественных фантазий пропищит что-нибудь на страницах газет, этим дело и кончится. А убийства и ограбления мирных граждан никто связывать с непосещением убийцами и грабителями филармонии не станет.
Да и не обязательно в результате полного отчуждения от культуры быть нарушителем закона.
Посмотрите на массы нечитающих, да и вообще не соприкасающихся с «прекрасным». У них и без «прекрасного» все прекрасно – дома, яхты, автомобили.
И никому не нужно «обливаться слезами над вымыслом»..
Да и вообще, к чему это, обливаться слезами? Нужно позитивно смотреть на жизнь!
Только сheesse! Обязательное условие общения и фотографирования..
Я подумал, а что можно будет сказать о человеке по его фотографиям после жизни, если на всех фото один сплошной сheesse?
Жить по принципу целесообразности удобно, надёжно. И забота, скажем, о неимущих и инвалидах тоже включена в этот принцип. Вы не должны больше волноваться о ближнем – для него всё уже сделано. И специальные подъёмники для колясок, и туалеты, и скошенные паребрики для удобного перехода улицы.
А бедному государство предоставляет пособия и социальное жилье – чем плохо?
Ничем.
Только в жизни Вам не достанется душевная «натренированность» живших когда-то
и живущих где-то еще и сейчас нуждающихся, брошенных, но не бросивших таких же как они. Разве что, если у Вас есть природный талант. Такое тоже встречается.
А если его нет, то где они, те университеты, в которых постигают науку чувствовать чужую боль?
Потому и любим мы наше неустроенное прошлое, в котором нужно было выручать друг друга.
Иначе никак..
Иначе никак
Гастрольная жизнь конца восьмидесятых – начала девяностых в моей стране меняла свой облик. Не подчиняясь более законам централизованного управлениями потоками гастролёров, антерпренёры, или целые организации приглашали тех артистов, которых им хотелось пригласить, а не тех, кого предлагали.
Мне еще довелось застать систему поголовного тарифицирования концертными организациями. Это напоминало окольцовывание птиц: не окольцован – не можешь официально концертировать.
Я тоже получил ставку в известном Ленконцерте еще будучи студентом.
Удавалось это не всем. Первая ставка моя была одиннадцать рублей, не самая маленькая. То есть, предполагалось, что за одну сыгранную пьесу я могу получить эту сумму. Второй и последней ставкой была четырнадцать.
Затем «окольцовывать» поголовно перестали, можно было просто получить приглашение в частном порядке и договариваться о гонораре как сторгуешься..
В былые «тарификационные» времена Натан Ефимович был одним из самых высокооплачиваемых пианистов. Он получал не только полагающуюся ставку, но и немалое количество процентов «за мастерство» - была и такая категория, выражавшаяся в денежных единицах. Количество «процентов мастерства» определяла тарификационная комиссия, состоявшая из профессионалов и представителей Управления культуры.
Централизованность любой структуры в нашей стране не могла обойти сферы гастрольно-концертной. А поскольку спланированное где-то в центре не могло абсолютно соответствовать условиям тех конкретных населённых пунктов, куда приезжал артист, то случались всякого рода казусы.
В городе Невинномысске, куда Учитель приехал с концертом, не оказалось рояля. Концерт не состоялся.
Однажды где-то на гастролях его отправили играть в психиатрической больнице.
Там, как был убежден Натан Ефимович, и врачи были невменяемы.
А сидевший в первом ряду больной прямо посреди исполнения задал вопрос:
«Плясать будешь?»
По плановой разнарядке Натан Ефимович приехал в Кисловодск, где его и еще двух маститых пианистов посадили в одну машину и развезли по домам отдыха.
На месте Натана Ефимовича никто не встречал, более того, никто не ждал. Сообразившие в чём дело женщины из обслуживающего персонала спешно сметали крошки со скатертей в столовой, где стояло пианино (не рояль!) и где седовласому старорежимному профессору, прославленному артисту предстояло выступать.
Результатом аврального объявления по санаторному радио было присутствие десяти человек, которым Натан Ефимович играл, перемежая игру комментариями по поводу исполняемого. Потому что иначе не мог.
Отмена тарификационных условий обещала переход на капиталистический путь и в нашем концертном деле. Но надежды на более высокие гонорары и лучшие условия приёма артиста в целом оправдывались далеко не всегда.
Как грибы вырастающие невесть откуда антерпренеры – импрессарио – менеджеры соблюдали свой интерес и не всегда интересы артиста.
Были и просто бедные, пытавшиеся приглашать гастролёров, чтобы развить хоть какую-нибудь концертную деятельность.
Мои собственные гастрольные опыты второй половины восьмидесятых – начала девяностых тоже запечатлелись в памяти.
Помню прилет в Ижевск. Ижевск – столица Удмуртии. Город известный на весь мир своим знаменитым гражданином - там живет легендарный Калашников.
Из Ижевска нужно было три часа ехать до маленького – приблизительно сто тысяч жителей – городка Глазова, где назавтра должен состояться мой сольный концерт.
После концерта на поезде предстояло ехать дальше, в Екатеринбург.
Помню, в аэропорту Ижевска на машине меня встречал организатор концерта.
Водитель он был начинающий, а машина, старый «Москвич» с фургоном (иронически названный в народе каблуком из-за торчащего вверх, словно каблук перевёрнутого ботинка, фургона) периодически глохла. Поскольку управлять автомобилем в то время я ещё не умел, толкать «Москвич» приходилось мне.
Дело было ночью. Машина глохла раз десять и столько же раз мне приходилось толкать. Ехали мы не положенные три часа, а все восемь, потому что, ко всем прелестям путешествия, еще и заблудились на темных лесных дорогах.
Периодически, после того как я толкал и мотор заводился, мой антерпренёр, чтобы разогреть машину как следует, на всякий случай разгонялся так, что оказывался метрах в трёхстах-четырёхстах от меня в глубокой темноте.
Через дорогу то и дело перебегали лесные звери. Было не по себе.
До Глазова мы добрались лишь в шесть утра. Сюрпризом было и то, что спать мне пришлось в одной комнате с приехавашим к моему антерпренёру приятелем-милиционером, а огромная молодая собака хозяев всю ночь напролет, открывая лбом дверь, влетала в комнату, где я не спал – пытался заснуть - и лизала мне ноги.
В десять утра я был на репетиции, в шесть вечера играл концерт, в десять часов вечера счастливый упал на полку в купе поезда, следовавшего в Екатеринбург.
Эта история, как и следующая, рисует картину гастрольной жизни и отношения к артисту в тот, как у нас любили говорить, «переходный» период.
В одной третьесортной гостинице общежитского пошиба в Новосибирске нас поселили в узкий номер с двумя кроватями по стенкам вместе с Раффи Хараджаняном. Фортепианный дуэт Нора Новик – Раффи Хараджанян – блистательный ансамбль, хорошо любителям музыки известный. Раффи еще и автор книг, председатель организации АНКОЛ в Риге, объединяющей культурные сообщества представителей национальных меньшинств Латвии. Мы вместе участвовали тогда в фестивале фортепианных дуэтов в Новосибирске.
Это было, конечно, настоящее свинство со стороны организаторов поселить нас таким образом. Туалет в номере был. А вот душ предусмотрен не был.
Приходилось отправляться в душевую куда-то далеко по коридору, предварительно получив у горничной ключ.
Кабины располагались по правую руку всего душевого помещения, впереди была еще какая-то дверь. Раздеться было возможно только перед входом в кабинку – другого пространства не было.
Разоблачившись, я приготовился войти в душ, и тут услышал резкий поворот ключа в замочной скважине. Дверь отворилась, и вошла угрюмая женщина с двумя огромными сумками в руках. Она решительно направлялась к той самой двери впереди.
Я стоял перед ней в чем мать родила, да еще и развел руками от изумления. «Мадам...», - только и успел промямлить я и получил немедленный ответ:
«Иначе никак.» - ей нужно было попасть в помещение за той дверью впереди.
Ну никак иначе!.
Мои непрестанные «ныряния и выныривания» не способствовали обретению душевного равновесия.
Прилёты в Россию вызывали несбалансированное возбуждение, а возвращения в Германию, тихий размеренный мир, мгновенно сбивали российский темп.
Я чувствовал себя в эти моменты словно бегун, резко остановившийся после длительного марафона. Внутренний темп – всё еще темп бега, и сердце колотится, будто бежишь. Но ты не бежишь, а стоишь, как вкопанный.
Говорят, это вредит здоровью.
Жизнь в России в недели и месяцы моих посещений естественным образом продолжала ту, доотъездную жизнь. Я не ощущал границы между прошлым и настоящим.
Связь времён не была нарушена. Вот только в Германии я так и не начинал жить. Паузы вредили. И не только психологически. В эти периоды я выпадал из языковой среды, что сказывалось по возвращении в Германию.
Постепенно я все же стал вживаться в немецкую действительность.
В Регенсбурге мы с Игорем и я сам играли концерты. Юля довольно скоро стала незаменимой в оперном театре, отчего работала иной раз и по десять часов в день. Вскоре появились и ученики.
Вхождение российского музыканта-профессионала в систему западного музыкального образования сопряжено с целым рядом обстоятельств привыкания и внутренних перестроек. Все, кто в бывшем Советском Союзе сделал музыку своей профессией, да и те, кто не пошел по этому пути, но учился в музыкальной школе, помнят серьёзный уровень профессиональных требований.
Советская музыкальная школа всех гнала в профессионалы. Спущенная из московских кабинетов программа не давала ребёнку ни малейшего шанса учиться любительски и без обязательств получать удовольствие от музыки.
Давление системы приводило к протесту и нежеланию в будущем музицировать даже для себя. Или в профессионалы, или – вон.
В то же время, это мощнейшая система воспитания музыкантов.
Совсем иначе дело обстоит в «свободном мире».
Ребёнка нельзя принуждать, а потому занятия музыкой происходят по мере желания самого ребёнка. И заключается «музыкальное образование» исключительно в обучении игре на инструменте (в СССР – целый комплекс теоретических дисциплин).
Здесь нет обязательных программ и экзаменов, а учиться можно хоть до гробовой доски.
Что и происходит – в школу ходят и взрослые, и глубоко пожилые люди.
И даже выступают в школьных концертах вместе с детьми. В музыкальной школе на Западе воспитывают слушателя, а не профессионала. И, надо отдать должное, слушатель в этих краях сведущий.
Но внутренний конфликт с происходящим здесь для выходца из «тоталитарной» системы советского музыкального образования все же неизбежен.
Как неизбежна и реакция «жертв» лавины педагогических требований, а жертвами подчас становятся наши ученики на Западе.
Глупее всего навязывать в здешней игре свои правила. Этим грешат многие из коллег – бывших сограждан.
Вначале и мне приходилось сталкиваться с несовпадением представлений.
Хотя, в отличие от многих одержимых коллег-педагогов, обучающихся никогда не обижал ни словом, ни повышенными тонами.
Сейчас среди моих учеников, в основном, взрослые люди – мои студенты и приходящие за консультациями «со стороны».
Что касается детей, стараюсь иметь дело с профессионально ориентированными, то есть, способными и желающими выдерживать соответствующий уровень требований.
Такие здесь тоже есть.
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству. Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся"
Текст воинской присяги СССР до 1991-го года
И меня не минула чаша сия. По окончании Консерватории мне предстояло пойти в армию. В то время я не знал человека, мечтавшего об армии, а уж в моем окружении – и подавно.
Избежать участи сей здоровому человеку, не имеющему двух детей, было практически невозможно – система работала чётко. Музыкантам, вовремя и надёжно договаривавшимся с военными оркестрами, было несколько проще – они не отправлялись в неизвестном направлении, чтобы потом «вынырнуть» где-нибудь на Дальнем Востоке.
Договаривались и обо мне. Выручал мой тесть – у него были необходимые для этого знакомства.
И всё же стопроцентно уверенным в успехе предприятия, пока не «приземлишься» в запланированном месте, было нельзя.
Двадцать пятого ноября 1986-го года мне следовало явиться в военкомат Выборгского района города Ленинграда в 5.00 утра. Почему в пять, постичь не могу и сейчас.
Проводы в армию в те времена были мероприятием драматическим. Из Свердловска приезжали моя мама и брат, все находились в напряжении.
В конце ноября стоял зимний холод. Чтобы попасть к пяти утра на призывной пункт, выйти из дому нужно было в половине четвертого. Так мы шли под снегом холодной ленинградской ночью вчетвером – мама, Юля, брат и я.
Помню огромное количество призывников и встретившегося среди них однокурсника, тоже призывавшегося. Он излучал спокойствие и уверенность в том, что вечером уже «будет пить кофе дома». Его папа, имевший крепкие связи, уже устроил его в военный оркестр прямо в городе. Я завидовал. Я не был уверен, хотя договорённость тоже была.
Позже я узнал, что-то не сработало в истории с однокурсником. И вместо вечернего кофе он был отправлен совсем не туда, куда предполагалось. Приблизительно через полгода в газете с патриотическим названием «На страже Родины» была опубликована его фотография с автоматом в руках, принимающим военную присягу где-то на севере страны.
А тогда у военкомата нас построили парами. Я оказался в первой. Тщедушный, в шапочке «петушок», я, видно, произвел негативное впечатление на командовавшего строем прапорщика. Весело посмотрев на меня, он сказал:
«Ну что, конец тебе пришел!».
Конец мне не пришёл. Из пересыльного пункта в Пушкине, где мы лежали на железных сетках армейских кроватей, нас двоих, меня и моего товарища ударника, забрал энергичный, быстрый человек прапорщик Пономарев.
И вечером этого тревожного дня я оказался в центре Ленинграда на улице Звенигородской, где в бывших казармах Семёновского полка царской армии помещался Оркестр штаба Ленинградского военного округа.
Службу в оркестре Штаба ЛенВО назвать полноценной военной службой было нельзя. Само расположение воинского подразделения в центре большого города объясняло многое.
У нас не было контрольно-пропускного пункта и некоторых других военных прочих атрибутов, включая оружие. Выйти на улицу можно было, просто открыв дверь.
Все солдаты были такие же консерваторцы, как и я.
Но оркестр был штабной, главный военный оркестр Ленинграда, встречавший правительственные делегации и возглавляемый непосредственно начальником военной оркестровой службы округа. Поэтому начальство наше находилось в постоянном напряжении от страха перед вышестоящими из-за почти ежедневных самовольных отлучек солдат, их прогулок по городу в гражданской одежде, да и вообще, из-за свободолюбивого нрава выпускников Консерватории.
Страх начальства отражался на нас. Периодически устраивались облавы.
Как правило, они происходили перед подъёмом, приблизительно в 6.45.
Кто не успевал к этому времени добраться из дому до казённой кровати, оказывался изобличённым в «самовольном оставлении части или места воинской службы» (ныне статья 337 УК РФ), а вся команда лишалась официальных увольнений на месяц.
Параллельно в таких случаях производился полный обыск помещения и гражданская одежда, нелегально хранившаяся изобретательными солдатами, в том числе, и в бюсте Ленина, изымалась.
В духовом оркестре роль пианиста весьма условна. Ну, разве что, если речь шла об эстрадно-симфонических программах, тут я был на коне.
Меня заставили учиться на теноре.
Инструмент этот несложный. Выполняет в оркестре скромную аккомпанирующую функцию. Научиться играть на нём мне ничего не стоило.
Но когда я брал его в руки, подносил мундштук ко рту и начинал издавать удручающие слух своей неэстетичностью даже не звуки - шумы, меня разбирал такой смех (да еще вперемешку со стыдом!), что отвращение к абсолютно ни в чём не повинному инструменту росло вместе с нежеланием учиться играть на нём, и, в конце концов, я победил в борьбе за право оставаться только пианистом. От меня отстали.
Я играл на синтезаторе и на рояле. И даже исполнял третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром в переложении для оркестра духового.
Было это в Доме офицеров, играл я в военной форме с аксельбантом.
Ну а потом, чтобы не было скучно, начальство назначило меня командиром отделения, повысив в звании до младшего сержанта.
И был продолжительный период моей службы, когда каждый Божий день с утра главный начальник обкладывал меня трёхэтажным матом за отсутствие порядка и дисциплины среди подчинённых мне солдат.
И брезгливо приговаривал: «Интеллигент, мать твою...»
Приключенческие годы
Восьмидесятые и девяностые были приключенческими годами.
Приключения начались в 1982-ом смертью Брежнева и закончились в последний день 1999-го отставкой Ельцина.
Повальная смертность генеральных секретарей ЦК КПСС в восьмидесятые встряхивала население. И бодрила. Потому что считавшиеся вечными члены политбюро (шутка ли, один был 1901-го года рождения!), в действительности таковыми не оказывались, а становились ближе к смертному народу, которым управляли.
Приход после смерти «бровеносца», как ласково звали Брежнева, некогда подчиненного ему начальника КГБ Андропова ознаменовался «наведением порядка».
В рабочее время сквозной Универмаг в Свердловске запирался с обеих сторон и всех граждан «процеживали» через проверку документов с выяснением места работы, чтобы выявить прогульщиков.
Но у самого Андропова в момент прихода к власти уже «паркинсонно» дрожали руки, так что «твердой руки» из его правления не вышло. Вскоре он умер.
Следующий был и того хуже. Брал дыхание на каждом слове и даже предлоге. Бедняга. Говорят, у него была энфизема. И совершенно ничего не выражающее лицо.
«Лёничка, он же эвенк!», - возбуждённо говорил Натан Ефимович профессору Гаккелю. Уж и не знаю, откуда такая информация...
Следующий – он же Черненко - умер через тринадцать дней после рождения Игоря в 1984-ом году.
Ну а потом начались приключения похлеще...
Помню, с приходом Горбачёва, как будто щелкнули выключателем, и у нас, в оркестре Штаба ЛенВО, где я в то время служил, появился военный политинформатор, вдруг ставший рассказывать нам, тогдашним солдатам, о действительной картине совершения Октябрьской революции и взятии Зимнего дворца.
Его рассказ полностью опровергал всё выученное нами в школе и увиденное в кино. Как легко перевоплощалась Система. Как увлекательно он рассказывал совершенно обратное тому, что прививал «защищавшим Родину» вчера...
Тогда же в киосках мы жадно расхватывали журнал «Огонёк», где по нынешним временам очень осторожно и постепенно раскрывалась нашим юным головам очам отечественная история.
Я уже к этому времени многое из напечатанного там знал от деда и зарубежных радиостанций, пробивавшихся к нам сквозь поставленные против них глушители.
Да и «самиздат» проходил через наши детские руки даже в самые «идеологические» годы.
Слабеющее государство допинговало граждан политическими потрясениями, романтической борьбой нового со старым. Страну завалило киосками с жевачкой и дешёвым пойлом с этикетками на иностранном языке.
К началу девяностых годов в нашем универсаме на улице Жени Егоровой тогда уже в Санкт-Петербурге остались только макароны.
Я свято храню газету «Правда» за май 1982-го года с опубликованным докладом Брежнева «О Продовольственной программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации». То есть, к 1990-му году все проблемы снабжения продовольствием предполагалось решить, а тут макароны..
Как прикажете понимать?
За неимением ответа на острый вопрос власти предложили нам отвлечься, посмотрев шоу с броским названием «Путч».
Что мы и делали, не отрываясь от телевизоров и зарубежных радиоголосов.
И тут возникло огромное количество новых персонажей – героев, подлецов, политических лидеров разных уровней, экономистов-реформаторов и проч. и проч.
Это был и детектив и триллер одновременно.
В центре сюжета не хватало только двух влюблённых на манер американского кино, которые, пройдя через испытания вместе со страной, обретают друг друга и совместное счастливое будущее.
Ну а сколь впечатляющ был акт отпуска цен, и описать невозможно.
Тогда вчерашние одинокие макароны на прилавке превратились
в «широкий ассортимент» всех, или почти всех необходимых продуктов питания, а на полученные вчера гонорары можно было купить те же самые макароны по сегодняшней цене.
А как Вам «Путч2» с Хасбулатовым и Руцким в главных ролях?
Растревоженная фантазия рисовала захватывающую дух картину полета Хасбулатова на влетевшем в его кабинет снаряде. Словно Мюнхгаузен на пушечном ядре.
А чего стоили вторые выборы Ельцина! Всё висело на волоске.
Ждали возвращения в Кремль «блудных» коммунистов в лице их лидера, который и сегодня всем недоволен. Брюзга.
А волнительная история с шунтированием, сопровождаемая актом передачи ядерного чемоданчика Черномырдину – кто его знает, что у него на уме..
Вот дефолт 1998-го пропустил. Тогда мы были уже в Германии.
И, наконец, финал: новогодний сюрприз - отставка Ельцина.
Приключенческие годы ушли в историю.
Сейчас мы в каком-то другом жанре.
Нашими городами в Германии стали Ганновер, Регенсбург и Висбаден.
Ганновер – это начало. Город, в котором было так трудно, так неуютно и одиноко.
Не забыть наших пеших хождений по этому широко разбросанному пространству. Хождений вынужденных – первые шаги в стране, где Вы ни в одном списке не значитесь, направлены в ведомства, где Вас в эти самые списки вносят.
И для служащих бюрократических ведомств Вы, «глухой и немой» - не персона,
а порядковый номер такой-то..
В этом драматическое противоречие первых шагов в чужой стране.
Ведь Вы-то, на самом деле, персона...
Помню, уже не чувствуя ног, добрели как-то до очередного ведомства, ровно на одну минуту опоздав. Начинался обеденный перерыв. Нам требовалась одна единственная печать.
Сухое, но вежливое «nein» заставило ждать два часа и наблюдать, как в соседнем кафе в компании коллег оживленно что-то рассказывает отказавший нам бюрократ.
Тогда мы с тоской вспоминали случай с Юлей в нашей «стране чудес».
Ей предстояло ехать в один из пригородов Петербурга на концерт с певцами.
Когда она оказалась на железнодорожной станции, выяснилось, что поезд в направлении нужного ей пункта отменён.
Известно, что самый страшный сон артиста – неявка на спектакль, поэтому описывать её чувства в тот момент не стану. Её ждали несколько певцов и переполненный концертный зал.
На вопрос, заданный служащим станции, нет ли альтернативы отменённому поезду, ею был получен отрицательный ответ.
Юля вышла на перрон и по-детски расплакалась. Увидев рыдающую на перроне, диспетчер подошла узнать, что случилось. Поняв весь драматизм ситуации, она направилась в свою диспетчерскую.
Проходивший мимо и обычно не делавший остановки на этой станции поезд по просьбе сердобольной диспетчерши затормозил ровно на секунду, чтобы Юля могла впрыгнуть в кабину машиниста, который, как выяснилось в разговоре, к тому же оказался любителем классической музыки. Согласитесь, не частое явление среди машинистов российских железных дорог.
К концерту она не опоздала.
И все же есть в этой немецкой на наш взгляд тех лет непреклонности своя логика. Структурированность повседневности ритмизует её. Помню, Натан Ефимович сетовал на «неритмичность» советской жизни.
Ганновер не виноват. Это нам было трудно.
Не виноват Ганновер и в том, что был разбомблен в последнюю войну на девяносто процентов, и глазу избалованного петербуржца были милы лишь небольшие архитектурно привлекательные островки города, счастливо избежавшие бомбардировок.
И какое чудо, что уцелел Регенсбург, находящийся всего лишь в часе езды от разбомбленного Мюнхена. Регенсбург – наш второй город.
В нем дышит двухтысячелетняя история. И нам этот город был по сердцу.
И относились к нам хорошо. И хорошо писали о нас.
Вот только провести всю свою жизнь там мы бы не смогли - внутреннее культурное пространство слишком узкое.
Не знаю почему, но Висбаден даёт дышать. Прекрасный «горбатый» город
с множеством «русских следов». Здесь русская православная церковь и связанная с ней печальная романтическая история замужества и ранней смерти великой княгини Елизаветы Михайловны, внучки Павла Первого, здесь Рулетенбург Достоевского – знаменитый Курхауз и казино, здесь «Вешние воды» Тургенева.
И кладбище рядом с православной церковью, на котором лежат Шереметевы, Воронцовы-Дашковы, сестра Кюхельбеккера и дочь Пушкина Наталья Александровна... А еще в Висбадене живет праправнучка Пушкина
Клотильда фон Ринтелен. И жил знаменитый художник Явленский.
Здесь есть прекрасные люди из коренных, сумевшие нас разглядеть,
искренне расположенные к нам.
Три города наших десяти лет в Германии – три разных жизни.
О спасителях и помощниках
Я часто думаю о вас, спасители, помощники - верные, дорогие люди.
Из другого пространства, из совершенно иного уклада жизни я вижу и переживаю сделанное вами еще ярче, чем тогда.
В той, не существующей больше стране, всегда было «место подвигу» - слишком много несправедливостей и опасностей было в ней.
Спасали друг друга по дружбе, из любви, или из «выученного» еще в начальных классах школы «чувства гражданского долга»... Или просто так.
Я помню моё первое спасение. Спасителем был родной брат деда, фронтовик, майор, орденоносец. Он спас меня в море.
Я, тогда худенький, костлявый, вывалился из детского резинового круга в Чёрном море и пошел ко дну. Мне было лет пять или шесть, я хорошо помню этот момент.
Он вытащил меня задыхавшегося.
Потом уже он помогал мне в студенческие годы – присылал по праздникам и в день рожденья деньги. Он был тёплый человек.
В годы папиной смертельной болезни его спасала тётя, мамина родная сестра, бывшая тогда врачом одной из больниц Свердловска и обеспечившая папе медицинское обслуживание.
Тётя, ставшая впоследствии большой медицинской начальницей в Екатеринбурге, спасала нас всех.
Благодаря ей и бабушка с дедом прожили на какое-то время дольше.
В 1984-м тесть спас от бездомности.
Тогда ему удалось «вырвать» в институте, где он преподавал, трёхкомнатный кооператив для нас. Та наша удача – его заслуга.. Юлины родители и моя мама вскладчину этот кооператив нам купили.
В самом начале бандитских девяностых на конечной остановке автобуса в час ночи ко мне подошли двое, взяли под руки и повели куда-то, угрожая ножом и пистолетом. Зачем и куда меня вели, не знаю по сей день. Но было страшно. Наблюдавшая некоторое время сцену из окна, а затем выбежавшая вместе с дочерью на улицу женщина закричала: «Саша, Саша!» и, обращаясь к бандитам: «Это мой сын».
Простая русская женщина Лидия Петровна, жившая в первом этаже блочного дома на конечной остановке автобуса, спасла меня.
В 1990-ом, когда родители Юли, уставшие сопротивляться «собачьей жизни», отправились навсегда в Израиль, заботу о шестилетнем Игоре взяли на себя
дядя и тетя Юли. Спасали нас в нашей сложной жизни.
Добрые, щедрые люди.
В девяностые же нас, нищих, подкармливал дядя, его дела шли неплохо,
и он охотно и с радостью делился с нами.
И сколько сделала для Игоря мама моего сводного брата по отцу,
научившая его любить Петербург так, что и сейчас, после десяти лет жизни в другом пространстве, он остается сердцем верен своему городу.
А друзья помогали в тяжёлые дни ухода Учителя.
И Шики подставили плечо в Германии.
Рома Заславский, прекрасный пианист, коллега поучаствовал в моей профессиональной судьбе, Ии еще один добрый человек «просто так» давал деньги на наш фестиваль в Петербурге...
Не забуду.
Храни вас Бог. Всех, кто помогает жить.спасает.
Про маму
У моей мамы нет дома. То есть, формально он есть - теперь она живет
в Ганновере.
Но ей легко сорваться с места и полететь куда угодно, чтобы кому-то помогать, кого-то выручать.
Мы теперь находимся относительно близко друг от друга.
От Висбадена до Ганновера около четырёхсот километров - в сравнении с разделявшими нас раньше двумя тысячами между Петербургом и Екатеринбургом разница изрядная.
Но мы почти не видимся. Сейчас её «проект» – маленький внук, сын одной из моих сестёр, которому посвящена вся мамина сегодняшняя жизнь. Она везде, где он.
Моя мама – свободный человек. По-настоящему свободный, дающий свободу себе сам, а не обывательски пользующийся предоставленной.
И потому дом её – это она сама. И в этом доме она может перемещаться в любые точки вселенной, если там можно физически дышать – это, быть может, единственный объективный для неё фактор зависимости от внешнего.
Дом как недвижимость - тема для неё малоинтересная. Как и прочая собственность.
Она может делать дорогие подарки на последние деньги, доставляя себе тем самым удовольствие большее, чем приобретение чего-либо для себя.
Будучи человеком мыслящим и учёным, она размышляет о жизни и всегда полна новыми идеями.
Многим её способ жить кажется недальновидным, а мне недальновидной и наивной видится такая оценка.
Потому что, в отличие от многих дальновидных и предусмотрительных, моя мама знает цену жизни, ощущает смыслы её и конечность.
Она живёт.
«Как было бы интересно пожить в менее интересное время..»
Учитель
Невежливо не предупредить читателя о близящемся окончании спонтанно внезапно возникшего повествования.
Как в самолёте, где за полчаса до приземления предупреждают о снижении.
Вот бы отмотать всё назад, как кино- или магнитофонную пленку и посмотреть сначала. И понять про «бы» и «кабы», милое сослагательное наклонение, которому иной раз так сладко предаёмся.
Как было бы прекрасно, если бы функционировало «где родился, там и пригодился», если бы весь строй только начавшейся жизни оставался таким же всегда.
И все были бы живы и объединены. И все оставались там, где родились, и провели бы жизнь рядом друг с другом.
И я не рвался бы из творчески удушающей атмосферы Свердловска в Питер,
и Юра с Леной не рвались бы в Москву, как хорошо было бы всегда находиться на расстоянии одной автобусной остановки с вами, дорогие мои...
А потом и вся жизнь не была бы взорвана изнутри «временем перемен», и мы, как осколки, не упали Бог знает в каких далёких от нашего начала краях.
И не видел бы я ни лагеря, ни фрау N, не знал бы немецкого языка, не умел бы водить машину, не пережил того, что довелось и не писал бы того, что написано здесь.
И не было бы ни Петербурга, ни счастья двадцати лет рядом с Учителем, ни..
Продолжать страшно. И думать, что чем-то расплачиваешься за что-то - тоже страшно. И не хочется. Бог с ним, с сослагательным...
Германия – страна солнечная. Страна удобная и спокойная.
Страна улыбающаяся. Страна, словно жестким корсетом, стянутая строгими правилами и законами – от того и осанка прекрасная. Любое повседневное действие прописано бесчисленными параграфами законоустановлений, имеющих прямое воплощение в практике жизни.
Приехавшие десять лет тому назад из страны «понятий», мы попали в страну законов и правил. Не имея в крови «гена» законопослушания, мы испытывали недовольство по разным поводам, вступали в дискуссию с новой для нас действительностью, нажимая на «человеческое» в попытке дискутировать о не подлежащих дискуссии раз и навсегда установленных вещах.
Любой бюрократический отказ воспринимался как отказ «лично нам».
Любое ведомственное письмо, где в заготовленный шаблон была вставлена наша фамилия, рассматривалось, как выражение отношения именно к нам.
Как будто в неких бюрократических кабинетах сидящие там коварные клерки чинили против нас заговор.
И понять, что государство не общается с тобой лично и не может лично по отношению к тебе быть добрым или злым, получилось не сразу.
И дискутировать с великолепно отлаженной машиной на темы «можно» и «нельзя» было так же бессмысленно, как тогда, в восьмидесятые, ссылаясь на Советский Закон, пытаться добиться прописки в Бусиных пеналах.
Да и как могло быть иначе.. Ведь в родном государстве тех, советских, лет мы переживали противоположное. С детства. Когда проступок осуждается коллективом – пионерским отрядом, комсомольским комитетом, партийным собранием.
Когда представитель власти не только накладывает санкции, но и порицает тебя –
«кто Вас воспитывал, куда смотрела общественность!».
Само по себе порицание означает при этом, что можешь еще «перевоспитаться» и стать достойным гражданином.
Западноевропейское общество никого не перевоспитывает, не осуждает, не прощает.
Оно поощряет материально и материально штрафует. Это удобно.
Так и живёт солнечная Германия. Она несется комфортабельными поездами, летит не ограниченными в скоростях автобанами и медленно тянет дни в тишине маленьких уютных городков.
Finale
Как много на свете людей, которые легко и радостно сходятся с другими..
Иногда я завидую их общительности, открытости.
Завидую, что критическое не является для них приоритетным в отношении к окружающим. И окружает их огромное количество совершенно разных людей, в том числе таких же улыбчивых, готовых непрерывно что-то праздновать, спонтанно отправляться вместе в путешествия, ежедневно говорить друг с другом по телефону...
Всю жизнь что-то мешает мне относиться к людям вот так, нараспашку, впускать их в жизнь и в душу. И оказываясь в этих радостных добродушных компаниях, с удовольствием обсуждающих погоду, повадки собачек и кошечек, случаи на рыбалке и чью-то блестящую карьеру, я чувствую опускающиеся уголки рта, неспособность строить сложно-сочинённые предложения, и вообще, увядаю на глазах у всех, создавая впечатление о себе как нелюдимом, и еще хуже, высокомерном человеке, не желающем говорить о пустяках.
Но ведь это неправда.
К интеллектуалам себя не относил и не отношу. И о собачках готов говорить, только чтобы окрас у разговора был. Какой-нибудь. Ведь вопрос не в том, о чём идёт речь.
А как она идёт.
Набивающей оскомину констатации событий предпочту их интерпретацию.
Ради этого готов частично пожертвовать фактической правдой.
Честное слово.
Мама говорила мне еще в моей юности, к людям нужно относиться «корыстно».
То бишь искать в каждом человеке, встречающемся на пути, что-то ценное для себя, нечто такое, что может обогатить, тронуть, взволновать..
И это не обязательно должен быть только высокий интеллект, это могут быть и иные человеческие таланты. Умение дружить – само по себе талант.
Жаль, что дружить хочется не со всеми.
И никогда не хотелось.
И не жаль.
А хотелось и хочется с теми, кто «вымывается», как золото из песка.
И достаётся Вам без примесей за Ваше нежелание, или просто неумение, быть с кем попало.
«Вы уже нашли там русских друзей?», - нам часто задавали этот вопрос, особенно
в начале нашей жизни в Германии. Я не ищу ни русских, ни других, потому что не чувствую в себе потребности «прибиться» к какому-то конкретному человеку, или сообществу. Уж тем паче по национальному признаку.
Видел. Знаю.
Но знаю и то, что судьба делает дорогие подарки. И я их получал. И бережно храню.
Я счастлив, что вы есть у меня, дорогие мои. Те, кого я могу пересчитать по пальцам.
Вы, мои родные, и вы, мои друзья.
Вместе мы совершаем перелёт из пункта «А» в пункт «Б».
Дай Бог нам как можно дольше не приземляться!.
|