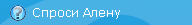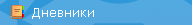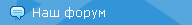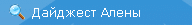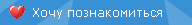Тай тофыть !
1.
…Он не хотел ничего помнить. Доведись ему сейчас заполнять анкету, в любой графе, на любой вопрос, он мог написать, если бы захотел, конечно, только два слова: «какая разница».
Ничего не существовало. Ни имени, ни фамилии, ни возраста.
Он ел, не понимая вкуса пищи, спал, безразличный к смешным условностям вроде мягкости и чистоты белья. Даже умывался только тогда, когда мать подводила его, как маленького ребёнка, к умывальнику, и, со слезами бессилия на сморщенном, состарившемся за эти годы лице, ладонью проводила по его небритой щеке. Он на мгновение вздрагивал, ощущая не бодрящий его холод и снова, потухая взглядом, уходил куда – то в себя.
«- Господи!» - бормотала мать, и, осторожно проводя полотенцем по когда-то красивому лицу, тихонько, чтобы сын не слышал, всхлипывала, не в силах рассмотреть в его глазах ни жажды жизни, ни горя, ни радости, а только лёд убеждённого в своей правоте висельника.
Рядом, за бревенчатой стеной дома, кипела жизнь, омерзительная и прекрасная одновременно и только он, закрывшись навечно в своём коконе, не желал замечать её, ни тем более, принимать в ней участия.
И если он чего-то и боялся, так это сна. Одного и того же, страшного сна. Пойманный в жестокий капкан виденья, он бился о подушку головой и мычал по - зверинному страшно, не в силах изменить прошлого или хотя бы просто проснуться.
2.
Весна в тот год расшалилась, как девочка - подросток, тайком примеряющей вещи старшей сестры. Глядя в зеркала луж, она вдруг томно надувала капризные губки, припекая солнышком, или, ещё до конца не осознав свою силу, раздраженно и разочарованно, по-детски жестоко, швырялась колючей крупой снега. Непроснувшийся лес качал еловые лапы, мудро и терпеливо снося непредсказуемость новой хозяйки.
По едва заметной тропинке, перепрыгивая через лужи, глядя в бесконечное небо, шел счастливый человек. Был он коренаст, весел, честен и молод. И имя у него было простое и честное – Саня Власов.
А ещё у него был целый мир, который хотелось обнимать и ворочать со счастливым смехом, чувствуя, что мир этот тоже состоит из радости и любви и совсем не против тебе подчиняться. Он вспоминал…
…Это было двенадцать лет назад. Саня стоял перед Ольгой нашкодившим первоклашкой, понимая, что не должен, не имеет права приводить её в этот перекошенный, осевший в землю старый домишко.
Но это был дом, в котором он вырос! Это был дом его матери, единственного человека на планете, который был ему дорог. Дорог так, что он готов был, не рассуждая, отдать жизнь, все, что есть и когда-то будет, за её единственную улыбку!
- Власов! Ты с ума сошел! Да и я тоже!- Ольга весело сверкнула глазами и засмеялась.- Неужели ты думаешь, что здесь… – она небрежно тряхнула головой, и, поведя рукой, подчеркнула запустение и убогость окружающего - Я нарожаю тебе кучу детей? …Извини! Нищету плодить я не собираюсь! Да и тебе не советую!
Саня молча развернулся, и, выйдя во двор, присел на скамейку, в отчаянье и обиде зажав виски ладонями, будто пытался защититься от удара.
Он ничего не мог с собой поделать. Это было сумасшествием, зыбуном, селевым потоком, справиться с которым не было ни сил, ни желания.
Он хотел эту женщину! Хотел каждой клеточкой своего молодого, крепкого тела! Любой её взгляд, невинный жест, снисходительный кивок, голос, приводил в состояние, близкое к обмороку. Она не могла принадлежать кому-то другому!
Наверное, он взял бы её силой, если бы не боялся измарать её, сломать колючий стерженёк слегка стервозного характера своей избранницы. В ней была независимость, неуправляемость дикой стихии и, одновременно, мягкая усталость мудрой женщины.
- Обиделся? - Ольга подошла легко и неслышно, опуская руку ему на голову и аккуратно притягивая к себе.
В душе Саня уже ругался, расставаясь с ней, но когда поднял глаза, то лишь молча и обессилено кивнул.
- Ну, ты сам подумай!..- она снова, как закапризничавшего ребёнка, погладила его, мягко и успокаивающе перебирая волосы - Твои дети должны расти здесь, в этой избушке. На курьих ножках. Разве это справедливо?.. Разве они не достойны большего! Ведь ты же мужчина! …Так?
- И что дальше?
- А раз так, то давай договоримся! Я буду с тобой жить, но детей рожу тебе только тогда, когда у нас будет свой дом! …Свой! А не это безобразие! Согласен?
И Власов подчинился. Его согласие вылилось в длинный и, пожалуй, самый трудный период жизни.
На следующее утро Власов пошел на поклон к начальнику лесхоза, строгому, грузному мужику, чтобы устроиться на работу. Устроиться неважно кем, потому что деньги, именно деньги, а не жалкие совхозные копейки, платил только он, этот грубоватый, неразговорчивый человек со взглядом - рентгеном.
- Вальщиком пойдешь? – буркнул, будто для себя, начальник, и, в течение всей следующей зимы, Саня, ползая по пояс в снегу, валил деревья, грузил их, надрываясь, на приходящие « Камазы», снова возвращался к длиннющей, тяжеленной слёге и снова, упрямо матерясь, ползал по пояс в сыпучем снеге.
Весной, призаняв денег, он купил старенький «Краз» и за лето, превратив механического инвалида во вполне работоспособного, орущего мощью зверя, снова подался в лес, теперь уже работая « на себя»…
3.
…Дом под красной крышей, с огромной верандой и аккуратно выкрашенными белой эмалью окнами, стоял на самом краю села. Еще восемь- десять лет назад здесь было поле, засаженное картошкой. А теперь…
Широкая грунтовая дорога тянулась посреди стоящих по ниточке, недавно построенных домов, горбато изгибалась и резко уходила влево, огибая пруд, укутанный с трёх сторон тёмно-зелёной шалью леса. Щекочущий лицо ветерок, пролетая над улицей, смешивал запах свежих опилок, краски, начинавшего парить на солнце навоза и сырой свежести лежащего кое-где, просевшего снега, отзываясь в душе щекочущим чувством полёта. С этой улицей, с недавно поднятыми домами, с людьми в этих домах, Саня Власов чувствовал себя единым целым.
А то, что злые языки называли его «подкаблучником»…? Да Бог с ними! Почему-то считается, что это равносильно смерти. Но ведь только ради женщины, влюбляясь нараз и откидывая доводы ворчливого рассудка, мужчины идут воевать, строят космодромы и гидроэлектростанции, совершая все мыслимые и немыслимые поступки. Только ради того, чтобы заслужить царственный поворот головы, одобрительный жест, кивок милого подбородка. И зачать детей, и дожить до седой, мудрой старости, а потом умереть на руках удивительного и всегда прекрасного создания, которое называют «любимой женщиной». А то, что говорят глупые да ленивые…
Он не мог не гордиться собой, не радоваться предстоящему выходному дню, как не мог не дышать, не любить. Всё, чего он добивался эти долгие и нелёгкие годы, наконец-то осуществилось…
Возвращаться домой Саня Власов любил. Любил, когда ступеньки глухо отдавали под его стоптанными кирзачами. Любил, постоять мгновение на крыльце, любуясь сделанным за эти годы. Любил предвкушение покоя и уюта.
Поодаль, в глубине уже успевшего разрастись сада, мягко отсвечивая боками, стояла банька. Эту баньку они с Колькой Кузнецовым, соседом, ставили в позапрошлом году. Потом, когда уже сложили печь, «напарились» так, что Олюшка на порог не пустила.
За баней - пруд. Три года назад Саня выпустил туда карасей и второе лето, вечерами, они с дочкой сидят около него с удочками, в надежде поймать самую-самую большую рыбину на свете. Жаль только - никак не удаётся! Но зато! Зато они подолгу болтают о том - о сём. Настёна во всём пытается подражать маме. Седьмой год ребёнку, а такая же рассудительная, упрямая….И красивая.
А рядом с прудом - теплицы, парники, грядки. А ещё сад, куда летом он выставляет ульи. И беседка. Кружевная, пряничная. Как с картинки. Место уединения. …Приходишь в неё, садишься, и, будто тонешь в тёплой темноте летнего вечера. Тихо-тихо. Где-то вдалеке гавкает собака, потревоженная припозднившимся прохожим. Огонёк сигареты прочерчивает слегка смазанную малиновую линию. Пахнет потревоженной землёй, цветами и мёдом.
Он постоял ещё с минуту, потянул ручку двери на себя, и, вошел в дом.
4.
…Чувство, пришедшее из ниоткуда, и никак не связанное со всем предыдущим, возникло, едва Власов шагнул в кухню.
Он не мог объяснить себе, откуда оно взялось, как называется, но оно - было, существовало, зарождённое в нём, тревожное, в мгновение сжавшее душу и делая ноги непослушными. Чувство смещённости, нереальности, «передёрнутости» происходящего.
Так бывает, когда входишь по колено в стоячую воду. Вот там, до воды, ноги твои. А под водой? Вроде бы - тоже твои…А может, всё - таки нет?
Саня огляделся, прислушиваясь и пытаясь понять причину собственной потерянной настороженности. На первый взгляд, беглый, и ни на чём не застревающий, всё было нормально. И тут же понял.
…Печь выстужалась! Заслонка была отодвинута, но вместо яркого, смешливо играющего пламени, лежал пепел и ветер лениво, бесшумно перебирал его чешуйки.
- Олюшка! – позвал он тихо и вопросительно, с надеждой на самообман.
Никто не ответил. Он позвал громче, почти крича, стараясь справиться с возникшей вдруг паникой. И опять услышал вязкую, паническую тишину.
- Настя! Настёна! – Власов рванул дверь спальни, зовя дочку, и вдруг ощутил, что проваливается в ад.
Шкаф, когда-то поставленный у двери, загораживал обзор, но даже то, что он увидел, заставило сердце сначала провалиться вниз живота, а затем рвануть к горлу, яростно застучав в висках и мешая полноценно дышать.
…Спальни не было. Разбитый телевизор в углу. Разноцветная, размётанная куча тряпья, вывороченная кем-то из шкафа. Книги на полу, беспомощно кричащие белеющими на солнце страницами. Ящики стола, швырнутые на беспорядочно скомканное бельё.
…И кровь. На стенах, на полу, на окнах. Везде.
Саня, ещё не веря себе, сделал шаг вперёд, и вдруг, словно получив неожиданный удар под дых, стал задыхаться, глотая, но, не ощущая лёгкими, притока вмиг пропавшего куда-то воздуха.
…Только кровь. Только её тошнотворный, встревоживший при входе, солоноватый запах.
Ольга, его Оленька, лежала на диване, откинув мраморно - белую руку и смотрела немигающим взглядом в потолок, а рядом, скорчившись, полусидя, беззащитно – дочь. Его дочь. Его Настёна.
…И снова кровь. Яркая и тёмная. На руке Оленьки, на её лице, на задранном платьишке доченьки.
Он хотел, было, сделать шаг вперед, но ноги не выдержали, подламываясь. Ошарашенный, полусумасшедший Власов стоял на четвереньках перед трупом собственной дочери, упёршись невидящим взглядом в её худые, окровавленные колени.
- Ы-ы-ы! – вырвалось у него, протяжное, долгое и звериное.
Ладонь попала в липкую лужу растёкшейся крови. Он поднял ладонь к глазам и с тупой безнадёжностью уставился на неё.
- Ы-ы-ы! – снова вырвался тоскливый крик, и Саня, на четвереньках, так и не сумев заставить себя встать, волоча за собой какую-то тряпку, пополз к выходу.
…Наверное, он так и просидел бы около стоящей у калитки железной подоржавевшей бочки, если бы пролезающий в нереальность происходящего, назойливо скребущий по душе, голос. Просидел бы и тысячу, и две тысячи лет, подогнув ноги под себя, стараясь придать телу позу эмбриона, тупо глядя на несмелую, ярко-зелёную травинку, пробивающуюся сквозь бетон.
Голос звучал откуда-то сверху, мешая окончательно провалиться в себя, свернуться, коллапсировать. Раздражая самим своим существованием. Существованием здесь, на краю разума.
- Саша! Саня! Что с тобой? – с эхом и отзвуком звучало в ушах, не давая окончательно забыться, сойти с ума, умереть от ужаса и непоправимости – Ты пьяный, что ли? Что с тобой?
Власов поднял глаза, пытаясь сосредоточиться на раздражающем его звуке. Взгляд, кинокамерой в неумелых руках, неаккуратными клочками вырывал частички реальности, отсылая их застывшему мозгу, не знавшему, что делать с этими кусками дальше.
Куст смородины без листвы. Робкий и ещё не пришедший в себя после зимних холодов. Крыша теплицы, серая, но в то же время геометрически-яркая на фоне разлившегося голубизной неба. Полметра бетонной дорожки с впечатанным в грязь, почерневшим, прошлогодним листом берёзы. Несмелая, почти прозрачная травинка рядом с его ногой. Палисадник. Калитка. Рядом с калиткой какая-то невысокая, худощавая женщина в джинсах и темно-синей курточке, энергично шевелящая губами, живущими отдельно от её лица.
« Галя! Соколова! Соседка! » - лениво констатировал мозг, снова пытаясь сжаться в точку.
Саша с раздражением почувствовал, как женщина берёт его за плечо и трясёт, трясёт, трясёт, привизгивая от неосознанного, почему-то охватившего и её, страха, мешая уйти, умереть, задавая один и тот же ненужный вопрос.
Он тяжело поднял руку, плавно, как в танце или на глубине, махнув сторону дома. Бессильно опустил её, смертельно уставшую от безнадёжности. С усилием, нехотя, запрещая себе и всему миру верить в случившееся, выплюнул, выплеснул сквозь онемевшие губы: «Там!!!».
5.
…Уже через полчаса около дома Власовых собралась толпа односельчан. Старые и молодые, они стояли, тихо переговариваясь, друг напротив друга, беззащитные, растерянные, словно голые перед жестокостью каких-то подонков, вдруг, в одночасье, разрушивших не только эту семью, этот очаг, но покусившихся на саму веру во что-то такое, что сплачивало этих людей, делая их не обычной бессловесной толпой, а чем-то гораздо большим, спрессованным и монолитным.
Власова трижды поднимали под руки, стараясь увести, но раз за разом у того подгибались ноги, и он сначала садился на холодную землю, а потом, инстинктивно опрокидываясь на бок, сворачивался перепуганным ежом. Наконец, стоящие рядом мужики подхватили его на руки, и, как спящего ребёнка, отнесли через дорогу, в дом Соколовых.
Соколов усадил Власова за стол. Налил стакан водки, заставляя выпить, хлопотливо приговаривая при этом странное и ненужное:
- Ничего, ничего! Всё хорошо будет! Всё хорошо!
Саша одним махом влил в себя водку, не ощущая ни вкуса, ни горечи, затем, не спрашивая хозяина, налил второй, снова выпил, не закусывая, и, посмотрев сквозь того укоризненно, с диковатой усмешкой, будто подозревая хозяина в чём-то нехорошем, безразлично и отрешенно хмыкнул.
Потом, хмыкнув ещё раз, сполз со стула на пол, свернулся клубком, словно младенец в тёплой, всезащищающей утробе, и, закрыв лицо руками, затих.
Через два часа приехала следственная бригада и «Скорая». Вслед за ними, на тарахтящем от старости «УАЗике», подтянулся участковый, плотный и бестолково плещущий неутихающей энергией, тридцатилетний крепыш.
Власов не видел молчаливых, сосредоточенных санитаров, выносивших носилки из дома. Не видел, как под оханье и нечастые всхлипы оставшихся односельчан, тела его жены и дочери проплыли, покачивая белыми, в неровных красных пятнах, простынями, над бетонной дорожкой. Не слышал жесткого, как приговор, клацанья захлопнувшейся двери «Скорой». Не видел он и шустрого участкового, бегающего по дворам, чтобы мольбами, просьбами вновь собрать народ около власовского дома.
Саша ничего не видел. Он всё так же лежал на полу, свернувшись калачиком в безразличной темноте, абсолютно трезвый, несмотря на выпитое, и ощущал странный, истеричный приступ смеха, готового вот-вот прорваться наружу. Было пусто и, почему-то, хорошо.
Только на самой кромке сознания, всё настойчивее и настойчивее, вырастал, пробиваясь, неуправляемый страх обложенного флажками зверя.
6.
…Он баюкал боль. Напевал ей песню без слов и смысла, сосредоточенно раскачиваясь, упираясь невидящим взглядом в стену затихшего на ночь материнского дома, желая только одного. Лишь бы та ушла, лишь бы оставила его разорванную, исколотую душу хоть на мгновение. Но, словно устраиваясь на долгий ночлег, боль переворачивалась, царапая сердце острыми, злыми когтями, и снова вцеплялась в душу беспросветной, обжигающей тоской.
Со времени похорон прошло девять мутных, ничего не обозначающих и никуда не зовущих дней. Память смиловалась над Саней. Похороны он не помнил, как, впрочем, не помнил и всё, что им предшествовало. Наверное, это было благом. Сном, данным ему, чтобы не сойти с ума, не броситься в общую, для жены и дочери, могилу. Прошедшие дни всплывали обрывками слов, чувств, запахов и звуков, не сливаясь в единое целое, не рождая ни порывов, ни эмоций. Словно просматривал он старые черно-белые фотографии в чужом альбоме. Только боль, заливающая своей бесконечностью всё окружающее, жила в нём, разрывая мир, ещё недавно бывший целостным и прекрасным, на два неровных, не желающих склеиваться и соединяться, клочка. Один – радостный, заполненный солнцем, жизнью и надеждами. Второй – вывалянный, затоптанный и бессмысленно выброшенный кем-то в пахнущую гнилью придорожную канаву.
Впрочем, такие мысли его не посещали. И это тоже было благом. Наконец боль уснула, и Саня блаженно улыбнулся.
В единственной комнате материнского дома хозяйничала ночь. Сквозь неширокие занавески, на цыпочках, осторожно, пробивался фосфоресцирующий блеск луны. Он разливался на полу строгими прямоугольниками, освещая комнату, бывшую и спальней, и гостиной и столовой одновременно, неустойчивым ночным светом. На стене, невидимые, тихо и успокаивающе тикали старинные ходики. В красном углу, под иконой Христа, потрескивала и освещала Божий лик тусклым желто-красным шаром, лампада. Пахло ладаном, утренними пирогами, протопленной печью и прошлогодней сушеной травой.
Он ждал. Он не верил в происшедшее. Не принимал душой, всем существом своим, упрямого факта смерти близких ему людей. Воображение раз за разом подсовывало варианты счастливого разрешения конфликта между ним, Саней Власовым, тридцати восьми лет от роду, женатым и имеющим на издживении дочь шести с половиной лет, и жестоким, напористым и наглым внешним миром.
Командировка, поездка в другой город, отдых на юге, казалась Сане самым простым и надёжным объяснением отсутствия жены и дочери. В воображении всё казалось до смешного элементарным. Он не винил Оленьку за то, что она уехала не предупредив, не взяв ни вещей, необходимых, по его мнению, в другом городе, ни документов, ни денег. Оленька – самостоятельный и надёжный человек. Знающий много такого, до чего ему, Сане, ещё добираться и добираться. Вот только по Настюшке он тосковал беспредельно. А сейчас он просто ждал.
День был суетливо-тягучий. С утра мать, закутавшись в чёрный, страшный платок, и с сочувствием посмотрев на него блестящими от слёз, выгоревшими от непонятного для него горя, глазами, ушла за чем-то на кладбище. Потом пришел какой-то мордатый, бесцветный мужик, и, назвавшись следователем, стал расспрашивать Саню о том, как они жили с Оленькой. Не ругались ли, не ссорились. Власов хотел сначала вспылить на то, что все эти «жили-были» звучали у бесцветно-мордатого в прошедшем времени, но, передумав с ленивой небрежностью, рассмеялся тому в лицо. Мужик изумлённо посмотрел на Саню, и молча, не попрощавшись, вышел.
« - Глупые! – насмешливо думал Власов, не осознавая, что, почти сойдя с ума, прячется от боли и навсегда засевшего в душе ужаса - Никто из них даже не подозревает, что в могиле никого нет! Что всё это – и похороны, и те растерзанные тела у него в доме, подстроено его умницей, Оленькой!»
Он не умел объяснить ни себе, ни другим, за чем это было нужно, но был твёрдо убеждён, что просто так Оля этого бы не сделала. Может быть, их семье кто-то угрожал. Может быть, она спасала его, своего мужа, от чего-то такого, с чем сам он никогда бы не справился. Скоро она придёт и всё объяснит.
Саня снова улыбнулся и посмотрел в угол под иконой. Скоро они должны были появиться. Они всегда приходили за полночь. Его жена и дочка. Его солнышки и лапушки. Его любимые.
Наконец он увидел. Они стояли под иконой, освещенные неверным плеском лампады, держась за руки, улыбающиеся и счастливые. На Оленьке было красивое белое платье. Почти такое же, как тогда, на их свадьбе. Она улыбалась. Улыбалась грустно и лучисто. Настюшка, прижавшись головой к маминому бедру, смотрела на папу внимательно и по-взрослому серьёзно, словно хотела что-то сказать, позвать туда, где всем будет хорошо и по-прежнему счастливо.
Саня широко улыбнулся. Они здесь. Они пришли. Не обманули:
- Когда встретимся?
Оля призывно махнула рукой, зовя за собой. Повернулась, собираясь уходить, будто куда-то торопилась.
- Пап, иди к нам, пап! – прозвенело в ушах колокольчиком дочкино, родное, и он стал вставать с кровати.
Неожиданно сердце тяжело и тягуче провалилось куда-то вниз, затем съёжилось, зажатое острыми холодными колючками, в отчаянии рвануло вверх, забилось потревоженной птицей и испуганно замерло. Перед глазами замелькала, запрыгала тошнотворная рябь. Стало до невозможности трудно дышать.
Саня попытался вздохнуть поглубже, но грудь, будто разом окаменев, отказывалась впускать спасительный воздух. Ещё пытаясь что-то поправить, он рванул ворот рубахи и вдруг с облегчением почувствовал, что становиться невесомым, лишаясь страхов, проблем и обязательств.
«- Господи! Спасибо тебе!»- мелькнуло где-то на краю сознания, и уже не сопротивляясь, спокойный и притихший, он начал падать в терпеливо ждущую, неподвижную темень…
8.
…Власову виделся родник. Родник выталкивал из земли тонкую холодную струйку воды, настойчиво пробираясь сквозь поблескивающие на полуденном солнце, скользкие камни. В верхушках седых, в обхват, берёз, со спокойной вековой усталостью вздыхал ветер. Пели, суетливо играя в ветвях, незримые птицы. Высоко-высоко, в прозрачно – голубом небе, равнодушно глядя на землю, плыли белые перья облаков. Было жарко. Снова и снова окуная руку в роднике, Саня чувствовал, как вода обволакивает пальцы, и от этого ощущения желудок спазматично сжимало. Очень хотелось пить. Раз за разом, разочаровано, он облизывал успевающие высохнуть в своём недалёком пути пальцы, и снова тянулся к роднику.
Неожиданно небо побелело, превращаясь в матовый квадрат. Покачнулось, подёрнулось, на миг, горячим маревом и снова приобрело свой обычный оттенок. Ручей, прозвучав колокольчиками необычайно громко, стал удаляться, на мгновение приблизился к лицу так, что на дне стали видны вибрирующие в потоке песчинки, и пропал. Отчётливые и переливчатые птичьи перепевки трансформировались в настороженно шаркающие шаги и бряцанье металла о металл. Будто бы из сырого каменного подвала, блеклыми тенями, проникли в мозг гулкие голоса, не давая вернуться туда, где он только что находился. В воздухе запахло чем-то незнакомым, резким и неприятным.
Саня попытался повернуться, всем телом ощущая странную, нежно душащую тоскливую тяжесть, и очнулся.
Он лежал на жёсткой металлической кровати, поставленной у большого окна с желтыми полупрозрачными занавесками. Сквозь сверкающее стекло, слепя, вливался поток яркого, порезанного на длинные прямоугольники, солнечного света. Рядом кто-то тихо переговаривался. Власов попытался подняться, но незнакомое до этого чувство слабости во всём теле потянуло обратно на скомканную, влажную простыню. Всё еще не пришедший в себя, он подчинился, и просто скосил глаза. Напротив него, на точно такой же кровати, ссутулившись и уставившись в пол невидящим взглядом, сидел худой черноволосый мужчина в тёмно-зелёном спортивном костюме. Чуть дальше, вдоль стены стояла тумбочка с наваленными на ней газетами и еще одна кровать.
« - Больница!» - вяло отметил Власов, прикрывая глаза и снова теряя сознание.
…Окончательно он пришел в себя минут через пятнадцать. Рядом с кроватью стояла симпатичная медсестра, сосредоточенно глядя на наполненный каким-то лекарством шприц. У неё были пухлые и, наверное, очень мягкие и ласковые руки. Из-под сдвинутого, с кокетливой небрежностью, колпака, выбивались белые локоны.
- Очнулись? – спросила она, выверенным движением откидывая тощее больничное одеяло и улыбаясь Сане, как старому знакомому, которого по каким-либо, не зависящим от обеих причинам, не видела долго и за это «долго» успела изрядно соскучиться – Тогда давайте укольчик сделаем!
Власов согласно кивнул и пробормотал, прекрасно зная ответ на свой глупый и никчемный вопрос:
- Где я?
- В больнице, где же ещё! – хихикнула медсестра, стрельнув глазами, и привычно воткнула иглу в бедро пациента.
Сморщившись от неприятного ощущения, он задал вопрос по-другому, ощутив вдруг, что губы его не слушаются, а слова выходят скомканными и невнятными:
- Что со мной?
Медсестра почему-то сразу стала непреступной:
- Все вопросы – к врачу, на утреннем обходе!
Власов попытался встать, раздражаясь несговорчивостью медсестры, но та, снова улыбнувшись Сане, как улыбаются расшалившемуся несмышлёнышу, надавила рукой на его плечо, возвращая на место:
- Вставать вам нельзя!
Она сумела сказать это так, что Саня поверил в серьезность своего положения и, несмотря на независимый характер, подчинился.
- Лежите! Всё узнайте на обходе!- приказала она и добавила, уже виновато, пытаясь смягчить собственную резкость – Вам ни в коем случае вставать нельзя!
……
1.
…Вот уже неделю я здесь. Здесь - это отделение невропатологии в областной больнице. Я многого не помню, да, наверное, в этом - то и счастье. Поймёт ли меня кто-нибудь, кроме мамы? А даже если и поймёт. Чем поможет? Я не хочу быть чьей-то обузой…
У меня нарушена речь и парализована левая сторона тела. Что-то, само-собой, я ещё чувствую, но рука даже не может держать ложку. Вставать не могу. Да и не хочется. Кто я теперь? Зачем?... Так… Никому не нужный обмылок прошлого. И это - в тридцать восемь! …Я не хочу жить!
2.
Смотрю в окно. Там уже май и всё начинает расцветать. Я пытаюсь ничего не вспоминать, но всё происходит помимо моей воли. Это больно! Это очень больно!...Господи, скажи мне - за что? Что я и мои девочки сделали не так? Молчит боженька. Какое ему дело до всех нас? До меня, до моей мамы, до девчонок моих? Как видно – никакого.
3.
Сегодня утром случайно подслушал разговор лечащего врача с мамой. Я никогда уже не выздоровею! Ни-ког-да! Если ещё день назад я мог надеяться на медицину, то теперь – всё! Господи! Почему я тогда не умер?! За что?
4.
Ночью пытался умереть. Задерживал биение сердца, задерживал дыхание. Казалось, что погружаюсь в воду. Было страшно, но ещё страшнее было то, что задуманное так и не удалось. Как я себя за это ненавижу! Не хочется есть, шевелиться, дышать. Хочу к моим девочкам. Убей меня, Господи!
5.
Вот уже месяц, как я здесь. Попросил у Николая Дмитриевича (моего лечащего), чтобы ко мне никого, кроме мамы, не пускали. Не хочу! Кто бы ни зашел, смотрят с сочувствием и жалостью. Зачем мне их жалость? Пошли все куда подальше! Лучше уж совсем ничего!
6.
Сегодня зашла мама. Вся в слезах. Я уже забыл, когда она плакала. Не тихонечко, как плачут взрослые, а по-детски, навзрыд. Наверное, ей не хотелось меня расстраивать, и по этому она всё скрывала. Приезжали с банка, где я брал ссуду. Так что теперь дом придётся продать. Всё полетело кувырком из-за каких - то ублюдков. … Хотя! Зачем мне теперь дом? Господи! Отпусти меня!
7.
Конец недели. Суббота. Снова приходила мама. И снова в слезах. Вчера состоялся суд над Колькой Соплёй. Над тем подонком, что убил моих девочек. Оказывается, их было двое. Второго урода так и не нашли. Да, наверное, не очень – то и искали.
На суде Колька валил всё на напарника. Ещё бы! Надо быть полным идиотом, чтобы не воспользоваться такой удачей. Как я его ненавижу! Этой сволочи дали пять лет! Всего пять лет за моих девочек! За две невинные души! И ты, Господи, будешь утверждать, что ты справедлив? Одного хочу - дай дожить! Чтобы глянуть этой твари в глаза. Пожалуйста! Ну что тебе стоит, Господи?
8.
Вот уже месяц, как я дома. Точнее - у мамы в деревне. Целый день изводил себя физкультурой. Конечно, я никогда не вылечу больную ногу, никогда не буду работать руками, как это было до болезни, но клянусь! Я буду ходить! Или ползать! Это не важно. Я должен! …А там посмотрим.
…..
…По пыльной дороге, посредине заплёсканного солнцем и зеленью посёлка, шел, тяжело подволакивая левую ногу, человек в старых помятых брюках и небрежно заправленной фланелевой рубахе. Правую руку он держал за пазухой. Как бы составленное из двух неравных частей лицо было сосредоточенно до отрешенности. Левая половина, будто вылепленная из оплавленного воска, сползала и кривилась. Правая, казалось, принадлежала кому-то другому. Этот кто-то был ещё не стар, по – мужски красив и пугающе-упорен.
Человек подошел к автобусной остановке, вынул руку из-за пазухи, закурил, и, время от времени неторопливо поглядывая на часы, стал ждать. Он умел ждать. Изо дня в день, в течение пяти долгих и мутных лет, он только и делал, что ждал. Ждал, повторяя непослушными губами одну-единственную, непонятную фразу: «Тай тофыть!».
Ждал.…Изо дня в день. Из месяца в месяц. Из года в год.
Вскоре автобус подошел. Человек подался вперед, рассматривая хлынувшую из распахнутых дверей толпу, и, снова засунул руку за пазуху. Там, у исхудавшего, задрожавшего в нетерпении тела, пригрелся охотничий нож.
Сколько раз, в мечтах, стиснув зубы от наслаждения, человек вонзал его в живот ВРАГА! Сколько раз проворачивал он нож вокруг своей оси, чувствуя боль и страх умирающего подонка!
Наконец толпа поредела. Не спеша, одним из последних, с тощим рюкзаком на плече из автобуса вышел ВРАГ. Человек шагнул вперед, доставая нож и пытаясь встретиться глазами с тем, кто разрушил всю его жизнь. ВРАГ презрительно ухмыльнулся, не принимая в расчёт слабого, больного человека, стоящего в метре от него. Затем, скосив глаза на зажатый в потной руке нож, отступил назад, одновременно растерянно опуская взгляд.
- Папа! Папочка! Папка приехал! – неожиданно услышал Человек голос, до боли похожий на голос когда-то похороненной дочери.
Он замедлил движение и в недоумении оглянулся. Из-за автобуса, часто стуча каблуками и счастливо смеясь, выбежала маленькая девчушка в коротеньком цветном платьишке. Пробежав рядом, она с размаху бросилась на шею ВРАГУ, прижавшись к тому крепко-крепко, будто прирастая.
Человек вздрогнул, согнулся, втягивая седую голову в поникшие разом плечи и сразу постарев на целую жизнь, зашагал прочь.
…Нашли Саню в заброшенном сарае на окраине села. Он висел, сгорбившись, на серой, полусгнившей поперечной балке, в одной стоптанной сандалии, помятой фланелевой рубахе и серых брюках, из которых торчали худые, поросшие темным пушком, давно не мытые ноги. Рядом с солнечным столбом валялся остро отточенный охотничий нож, а на трухлявой, померкшей от времени, стене, чем-то острым было нацарапано одно - единственное слово: «Простите…».
У кого и за что он просил прощения? Кто знает…
|