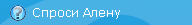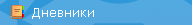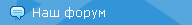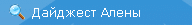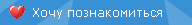WHEN THE MUSIC’S OVER.
Энгдекит.
Однажды Солнце взойдет
на Западе.
Молодой американский
Пророк.
Перед нами медленно течет грязная вода в свои далекие горизонты, вечер раскрыл теплые объятия, и вот мы попались в них и бьемся, словно крупные птицы. Отшумела водка в голове, и только голоса сидящих вдалеке коров на лавке нарушают безмятежное спокойствие. Эфирные энергии этого места нежные, как пушистые шары. На том берегу тянется вдоль шиферный забор с огромными черными словами «Харьков – это Россия», но чтобы заклинание не подействовало, кто-то дописал красными паучьими буквами «Ложь». Правильно, все ложь – и этот забор, и девушка рядом, и плывущие по течению облака, стремящиеся отнереститься в далекой океанской лагуне. Парк окольцовывает дорога с разметками для нужд уроков физкультуры в соседней школе, когда-то давно я случайно увидел, как девушки в спортивных костюмах, по виду – класс десятый, неслись по кругу, тряся могучими грудями. Река прочно заключена в … гранит, наверное. Или не гранит, собственно, не суть важно, а невысокая оградка увита диким плющом, своими зелено-красными лапами придавая ландшафту сходство с похороненными в джунглях городами тольтеков. Но, что я тут забыл?
- Ты что-то забыл, Арсен?
- А? С чего ты взяла?
- Ну, ты так шаришь по карманам, что я подумала…
- Да нет, я, когда волнуюсь, всегда шарю по карманам.
Тут мне пришлось судорожно ощупывать джинсы, Маша засмеялась, все превратилось в шутку, чего я, собственно, и добивался. Искал на самом деле оставшиеся деньги, ведь если бы я достал их и начал пересчитывать, то продемонстрировал бы самый, что ни на есть отвратительный тон. И дело здесь не в опасениях показаться финансово несостоятельным в глазах потенциального сексуального партнера, но в банальном отвращении к меркантильным побуждениям, до того сильном, что доставать деньги в этот прекрасный летний вечер кажется мне кощунственным. А вечер… Долгими ясными днями Солнце пило мою тоску, и случайные слова падали в мою прозрачную душу. Я никогда не забуду тех чувств, которые владели мной, но почему же так разрывается сердце? И когда будет закат, мое лицо повернется так, что вам будет виден лишь фас, словно на римских монетах. Эй, верный голос, спой, как я люблю смотреть. А зимой снова будет снег, и мы, в тяжелых куртках, быть может, уже не узнаем друг друга. Как же мне хочется, чтобы небо открылось, и мы, налегке, без рюкзаков, отправились в путь. Железные солярные символы покосились, полуоблетевшей краской нависая над густой травой, сочной и приятной на вкус, ее можно жевать, долго и с удивлением рассматривая надписи на приземистых лавочках. Около их деревянных тел прыгают маленькие игрушки, тихо склевывая скорлупу от семечек. Маша взмахом руки пугает воробьев, они разлетаются прочь в разные стороны, словно осколки Ф-1.
- Улетели.
- Ага. В теплые края. – Я лег на спину и уставился в небо, на теле которого летящий самолет оставлял аппендицитный шрам. - Я тоже сейчас улечу, мне уже пора.
- Сейчас только девять часов.
Она наверняка хочет, чтобы я остался. У нее большие глаза неопределенного цвета, я чувствую, как она ощупывает взглядом мою кожу. О ней остались лишь гладкие воспоминания – она женщина цвета. Дрожат верхушки свеч, бросая нелепый отсвет на железную будку, где группа людей в одежде покупает себе пиво.
- Ты когда-нибудь прыгала по дождевым лужам?
- Да, я возвращалась с подругой и попала под такой ливень! И, короче, мы сняли туфли, прыгали в лужи и брызгали друг на друга.
- Помнишь, как в Ералаше – «А вот зачем»!
- Ага, я потом, правда заболела.
- Лежала в больнице с воспалением легких?
- Нет не так, конечно серьезно, но дома пару дней провести пришлось.
- Ты часто болеешь?
- Нет, это, кстати, первый раз за… четыре года.
Из ее пакета стыдливо высунулась книга, судя по корешку – много раз прочитанная. Я посмотрел на Солнце, оно жгло мне глаза, и я стал часто-часто моргать, пока все небо не покрылось пурпурным туманом, а по деревьям, асфальту и машиному платью не заплясали пятна.
- Что у тебя за книга? – Спросил я, осознав, что уже долго молчу.
- Достоевский, «Преступление и наказание». – Ответила она, и мне кажется, что все то время, пока я медитировал, она мучительно думала, что бы сказать.
- Книга отличная, но охота тебе летом такое читать! Этот промозглый и сырой Петербург лучше всего воспринимается поздней осенью.
- Давай поиграем в игру. – Говорит она мне, улыбаясь краешками глаз.
- Старинная индейская игра?
- Ну не знаю, чья она там, но заключается в том, что ты задаешь вопрос…
- Вопрос?
По шаткому, провисшему сооружению прохожие перебираются на тот берег вечности, оставляя за собой зацепившиеся за кусты клочки мыслей. Эти мысли медленно стекают по ступенькам к самой воде, подбодряемые скрипением ивовых ветвей и легкой мелодией, что напевает загрустивший элементаль. И хочется взяться за старое ружье, чтобы сбивать в полете подруг. Расколи себя на части, подари мне горсть осколков, вряд ли мы когда-нибудь будем вместе, пусть останется мне на прощанье.
- Да, вопрос, не перебивай, итак ты задаешь вопрос…
- А какой вопрос?
- Да сейчас я все объясню! Любой, какой хочешь, но желательно, чтобы он касался лично тебя, потом называешь номер страницы и строчки. Это и будет ответ.
- Недоделанный Ицзин.
- Что?
- Ничего. Ну, давай, только мне в голову ничего не приходит.
- Любой, самый глупый.
- Самый глупый? О’кей, в чем смысл жизни? Стр. 11, строчка 11.
Зашелестели страницы, написанные когда-то этим сумасшедшим мистиком, и кажется, что по мосту невдалеке, переходя холодные трамвайные рельсы, движется ко мне молодой человек с прической а-ля Иванушка Дурачок, одетый в полосатые штаны, судорожно сжимая топор.
- Каждая.
- Что «каждая»?
- Это ответ. На одиннадцатой сточке только одно это слово. Им кончается абзац.
Кожа на руках нагрета так, что вот-вот лопнет, я испытываю чувство безразличия к происходящему. И вот уже темно, то здесь, то там мое сознание выхватывает пучки сухой травы, торчащей на стыках устилающих площадь перед набережной квадратов. Лают о чем-то полузабытом жабы. Маша превратилась в кусок зеленого стекла, наполненного мелкими, еле заметными пузырьками воздуха, и бессмысленно разбросанные грани причудливо искажают свет, а те несколько истертых поверхностей, которыми она наиболее часто соприкасается с внешним миром, не мешают заглянуть в застывшую пропасть, где однажды, летним днем, слабо мелькнуло, растворившись, отражение моего лица.
Дотет.
- Подстрижка обычно длится полчаса, лампочка может гореть, не перегорая, несколько лет, человек может нанести 200 ударов карандашом по столу за минуту. Но никто не может подчитать, как быстро растет человеческое тщеславие. Еще несколько лет назад Александр Михайлович Болотный работал на бензозаправке, а затем стал директором одной из крупнейших фирм по производству мебельной древесины. У него была личная секретарша, которая регулярно делала ему мин’ет, офис из пластика (старик терпеть не мог деревянную мебель), огромный дом за городом и личный повар. Но что дальше? Что же ему делать в этом самом расплывчатом дальше, если его фирма уже завоевала почти весь рынок сбыта. Ну, допустим, путем разнообразных интриг, сделок с чиновниками и убийств, ему удастся заполучить контрольный пакет акций всех крупных компаний по производству мебельной древесины. Но потом он будет уже слишком стар, чтобы осваивать новые отрасли промышленности, и он останется старым владельцем черт знает скольких фирм, и ревматизма. Поэтому он и открывает шкаф, берет ружье и спускается в подвал к гаражу. Там, возле «Феррари», он ставит его прикладом на пол, а дулом упирает в голову. Человек может прострелить себе голову из ружья один раз за всю свою тщеславную жизнь.
Рассказывая мне все это, худощавый человек в длиннополом, дорогом пиджаке стряхивал пепел прямо на пол. Я задумался над вопросом: если бы я курил, то позволил бы себе, сидя у него дома, делать то же самое? А еще – стоит ли мне вообще предпринимать какие-либо действия. Ситуация сложная, и мое неправильное решение приведет к… ни к чему хорошему, в общем, не приведет. Мой брат попал в реанимацию, и связано это было как раз с тем, что мне рассказывал его начальник. Работал он на той же фирме, владелец которой покончил с собой.
- Считайте, что эта просьба вашего брата, Арсен. Только он не может вам ее произнести, к нему не пускают.
- Да, я знаю. А откуда вы узнали, что я смогу выполнить эту просьбу.
- Рассказали.
- Кто?
- А вот этого я пообещал не рассказывать. И, конечно, я заинтересован в этом лично. Эта старая мертвая сволочь уже искалечила мне трех работников. Так что если вы сможете его… - Он покрутил пальцами, подбирая нужное слово.
- Я понял. Когда можно будет попробовать?
- Когда вам будет удобно, хоть сегодня.
- Ночью.
Он понимающе кивнул, и тут я заметил, что ширинка у него не застегнута. Пальцы рук сцеплены, должно быть, не совсем уютно себя чувствует, и курит, не зажав сигарету между средним и указательным, а держа ее указательным и большим.
- Я выпишу вам пропуск, чтобы вас пропустила охрана на проходной.
Он пригласил меня домой, а не в офис. Стало быть, просьба… Я поднялся с кресла, он пошел к двери проводить.
- У вас необычные способности, Арсен.
- А у вас ширинка расстегнута.
- Черт!
- Ничего, бывает.
- До свидания.
- Всего доброго.
Когда я вышел на переулок, где-то гавкала собака, а вдалеке курганом серела куча щебенки. Над травой летают разного рода бабочки и прочие твари, я подумал, что такие вот маленькие коттеджи, вроде того, откуда я только что вышел, скоро заменят собой все эти кирпичные бараки со ставнями на окнах по всему частному сектору. Нахлынули воспоминания о детстве, ядерная зима воет за стенами бункера, отчего около лампочки, висящей без абажура на потолке, становиться еще уютнее. Покачивает головой мутант на тонкой шее, чертов уродец. Раньше это здание было… не помню… кто-то рассказывал… Какая разница, думаю, что еще лет пятьсот точно люди будут нуждаться только в бункерах. У нас тут появилась новая игра – кладешь кусок хлеба в туннель, прячешься за углом и ждешь, когда вылезет крыса его жрать. Цель игры – успеть схватить хлеб раньше, чем крыса. А таблетки от радиации еще до войны наркоманы съели, теперь и на улицу не выйдешь, хотя чего там ловить, с другой стороны, на этой улице. Бомбы в этом районе падали с такой плотностью, что бактерии – и те наверно концы отдали. Что упало – то пропало. Воды нет. Скоро сдохнем совсем.
Вечером я подъехал к одному из фабричных корпусов, половина окон в нем уже не горела, забор вокруг увенчивали замысловатые петли колючей проволоки. Воздух вливается в мои ноздри, я стою, наверное, уже минут десять, смотря, как вьются авиаторами первой мировой мелкие мошки у фонаря. Наконец, я силой оторвал подошвы туфель от отдающего дневное тепло асфальта и пошел к зданию мимо колеи, что когда-то накатали в грязи грузовики. Закурив последнюю сигарету, бросаю смятую пачку ловким баскетбольным движением в круглую урну. Не попал. На многие метры вдоль – побеленная стена, прохожу в открытую створку металлических ворот во двор. На проходной уже знали обо мне, правда, мне неизвестно, что все-таки им сказали. Но пропустили меня без проблем, и, немного подумав, я обошел цеха – огромные молчаливые залы, наполненные оборудованием, названия которых, мне, к счастью, не известны. И луна стекает на молчаливое железо, и производственный хлам у стен через толстые, узорчатые окна. Так тихо, что слышно свое дыхание, пахнет деревом и клеем, и клеем становится время, струясь по темным углам на полу. От одного цеха к другому идут сырые коридоры с деревянными дверьми, глухие шаги, лестничные пролеты, и вот я уже на третьем этаже. Здесь проектировочная, заведующие, хозяйственная часть, кабинеты, кабинеты, кабинеты и огромные стекла – отсюда видно светящиеся башни вокзала. Но вот на истертые паркетные половицы падает меч электрического света, сюда мне, наверное, и надо. За открывшейся дверью перед пластиковым столом в кресле сидит мужчина лет шестидесяти, посмотревший на меня неестественно тяжелым взглядом, должно быть, подчиненные боялись его до смерти.
- Садись, не стой в двери. – Голосом, не терпящим возражений, говорит он.
- Не хочу. – Отвечаю я.
Александр Михайлович поиграл желваками.
- Тогда говори, что тебе нужно.
- Я к вам пришел посоветоваться.
- Посоветоваться?
- Да, теща посадила помидоры, а их начала есть шашель. Ничего не посоветуете?
- Ну, для начала нужно взять произведение Пауло Коэльо «Алхимик» и растереть его в ступе с гидрофосфатом. Затем нужно дать смеси настояться двенадцать часов, прочитать над ней пару строк из последней Дарьи Донцовой и намазать себе голову. На следующий день помидорную шашель как рукой снимет, соседи завидовать перестанут, и пьяница-муж не будет больше бить и уйдет на фронт.
Свет пропал почти мгновенно, сначала я даже не понял, что случилось, а еще через секунду он встал и, перегнувшись, оперся руками на стол. Воздух стал душным и затхлым, а передо мной стоял мой брат. Он печально улыбнулся и произнес:
- Не займешь пятерку до пятницы? А мне тебя очень не хватает, не хватает глаз…
Подойдя к нему вплотную, я резко нагнулся и, схватив его за ворот, швырнул в окно, благо, оно было рядом. Александр Михайлович схватился за жалюзи и гневно поглядел в мою сторону. Такого поворота событий он не ожидал, но видимо, справившись с собой, одной рукой схватился за шкаф, а другой стал тянуться ко мне. Я рванулся к нему, но поскользнулся на рассыпавшихся по полу бумагах, и тут почувствовал, как пальцы ложатся мне на горло.
Хэглэн.
Когда над землей спустился тот самый сиреневый туман, то он укутал спящий мир словно одеяло. И только я шел по улице, провожаемый утренними, тусклыми звездами. Город спит. Когда меня больше не вспомнят, когда ветер развеет пепел моих черт, когда друзья забудут мой голос, на одинокой могиле вырастет последний мой цветок. А пока я открываю двери, открываю двери, открываю двери, открываю жемчужные двери, открываю рубиновые двери, открываю радуги-двери, открываю апрелефиолетовые двери, я открываю….
Ноги промокли в лужах, из витрин глядят манекены, ожидая, когда по тротуару будут ездить троллейбусы и нежно впиваться в них взглядами. После того, как я покинул здание фабрики, мне хотелось идти и идти по безлюдным улицам, наслаждаясь легким утренним смогом. Один из рекламных щитов, попавшихся мне по дороге, оказался наполовину ободран. От слогана персикового напитка «каждый глоток приближает тебя к победе» и изображения готовящегося к старту спринтера осталось только «приближает тебя». К сожалению, концептуальность происходящего сейчас могу почувствовать только я. У меня есть отличная работа, именно туда я сейчас направляюсь. Там я возьму нужные бумаги и инструменты, переоденусь и поеду на окраину города. Устроился я туда совершенно случайно, Стас познакомил с человеком, я пришел на собеседование и был взят. Собеседование, кстати, отличалось от обычного. Молодой человек в квадратных очках с видом карьериста выдал мне анкетный бланк, где помимо вопросов о месте жительства и дате рождения были такие вопросы, как: «Читали ли вы Бхагавад-Гиту?», «Во что вы одеваетесь, когда идете в лес на барбекю?» и «Как вы считаете, вспомните ли вы завтра о президенте Эйзенхауэре?». Причем на последний из этих вопросов мое внимание обратили особо, посоветовав хорошенько подумать. После этого через несколько часов мне позвонили и сказали, что я принят.
Условия работы были самыми, что ни на есть легкими – один раз в неделю нужно оформлять новое место, а заключалась она в новом виде услуг для состоятельной публики. В некоторых частях города сохранились по соседству со свалками небольшие участки леса, рядом еще может быть небольшая токсическая речушка или железная дорога. Там обычно растет бурьян в человеческий рост, иногда ходят бомжи, и валяется куча всяких любопытных вещиц, выброшенных людьми, но никогда не бывает милиции. Именно в таких местах для группы клиентов организовывается отдых, во время которого они могут играть в прятки и разные подобные детские игры, палить костры, взрывая в них баллончики дезодоранта, поджигая автомобильные шины и куски шифера, пить дешевые алкогольные напитки, отливать фигурки из свинца. Мне нужно искать подобные места, замерять их площадь, отмечать, где находятся значимые объекты, вроде выброшенного холодильника и строить халабуды. Готовые халабуды в прайсе обозначены услугой за отдельную плату. За несколько дней до приезда гостей я еду на назначенное место и убираю особо экстремальные объекты, вроде торчащего куска арматуры под карьером со свалкой, куда кому-нибудь обязательно захочется спрыгнуть. Летальных исходов нам не надо. Хотя перед экскурсией клиенты подписывают бумагу о том, что они осведомлены о степени экстремальности и фирма за их жизнь и здоровье ответственности не несет. И стекает горький мед с тараканьих усов, а часы не завели на полвчера. Золотые дни на потолке расписались в явке, и ушли, нам остался шепот на песке. Зашивая ящерицам рот, я оглянулся по сторонам и тихонько пропел:
Хорошо оставаться
Как хорошо оставаться,
Всегда есть время побродить по супермаркетам.
Как раз в это мгновение ко мне подошел Коньяк. В его мутных, хитрых глазах мелькали искры от костров, разожженных на семиотических полях. Он подошел, покачиваясь и насвистывая, словно перебравший матрос. От него крепко разило.
- Ты принес товар.
- Да, вот он.
- Давай.
- Сначала покажи деньги.
Мы рассмеялись и похлопали друг друга по плечу.
- Тебе передавали привет ительмены. – Сказал он, осторожно обходя растянувшуюся на тротуаре дохлую кошку.
- Да ну? Я слышал, они поймали кита.
- Да, просто огромного. Ты смотрел новости?
- Нет.
- Конгресс настаивает на повторной бомбардировке Ирака, Буш отказывается, у него там родственники и друзья. И вот по всем каналам идет трансляция молитвы президента в овальном кабинете, и появляется дядя Сэм, и говорит о том, что Буш должен быть к чувствам своим не привязан, и обуздать их обязан, и все такое прочее.
Коньяк неожиданно споткнулся и упал на асфальт.
Харги.
Уходит от меня последний поезд, я остаюсь на сам на ветхом, асфальтном перроне. Ночь, качается свет фонаря, запутавшийся в темно-зеленых листьях, таких же беспокойных, как моя душа. И некуда больше идти, и хочется спать, да так, чтоб никогда не проснуться, не видеть окошка кассы, где злая тетка отпускает пассажирам билеты в вечность. Ноги несут меня куда-то в поле, вдоль мелкой посадки, где мне, я так понимаю, придется ночевать. Что-то шевельнулось рядом, и это, по-моему, еж. Точно, еж! Я ложусь перед ним на живот и шевелю его пальцем, ему это все не нравится.
- Знаешь, еж, - говорю я ему, глядя на черные иглы, - я ведь не такой уж плохой человек, совсем уж не плохой, совсем уж. У меня даже кожа, как у ужа, чувствительна. Не должен был я здесь оказаться, понимаешь, без денег совсем, без еды и крыши над головой, мучимый когнитивным диссонансом и болью в разбитой губе.
- Думаешь, мне легко? – Отозвался еж. – Я весь в иголках.
С этим нельзя не согласиться, я встал на ноги и побрел на верхушку холма. Там горел костер, разбрасывая блики на сидящих рядом, и треск поленьев как-то успокаивал, заставляя поверить в то, что мне действительно все равно. Брошенный в дни, брошенный в дни ты, шатаясь, как дерево в бурю, ищешь ее. Раздирает мозги воздух весны, пропитанный ядом слов, что здесь такого, чего ты еще не видел? Окруженный ящерицами, скользишь по тонкой ветке, отмеченный мелом. Бог отражений, как я мог забыть о войне? Забытый в асфальтовое время, уходишь в сторону слов. Спроси себя, когда ты проснешься, о чем был этот сон?
У костра молча сидело три человека, одетых в просторные плащи с капюшонами, каждый из них сжимал в руке ветку, и время от времени они ворошили угли.
- Добрый вечер. Можно рядом с костром погреться?
- Садись, грейся.
И снова все замолкли, в траве стрекотало, вдалеке мигают огни поселка. Один из них совсем молодой, два других постарше. Так мы сидели, слушая песню вечности, о том, как три человека сидят у костра, а к ним подошел четвертый, который сейчас думает, что было бы неплохо, если бы ему предложили выпить, или поесть.
- Сейчас бы неплохо выпить. – Сказал тот, что помоложе.
- Или поесть. – Поддержал другой.
Они переглянулись и засмеялись. Потом глянули на меня и засмеялись еще раз. Третий вытянул из темноты рюкзак, и, развязав шнурки, вытянул бутылку и консервы, а мне дал железную кружку.
- Давай знакомиться.
- Арсен. – Сказал я.
Он протянул руку, и я ее пожал. Остальные тоже протянули руку, но не назвали имени. У младшего белые длинные волосы и хищная улыбка на зубах, двое остальных чернобороды и широколицы. Может быть, я оказался среди загадочной секты скопцов, ревностно блюдущих дореволюционный обычай неназывания имен?
- Сам ты скопец. – Ответил мне тот, что развязывал рюкзак. – Ты лучше расскажи какую-нибудь историю, а то скучно сидим. Нет, сначала выпей.
- Подождите, - вмешался младший, - я расскажу. И не дождавшись согласия, начал:
- Иван Дурак – фигура трансперсональная, и нельзя сказать, что он когда-то был, поскольку он совершает те действия, о которых мы знаем, постоянно, непрерывно и вне времени, как и положено нормальному архетипу. И вот однажды он, начиная путешествие, идет по лесу. А жрать хочется – мочи нет, и вот он срывает сыроежку и ест, но сыроежка оказывается какой-то нетипичной и его начинает плющить. Но Иван Дурак герой, он должен держаться молодцом. То есть все как положено – отправка из дому, встреча с дарителем, получение волшебного средства, борьба с антагонистом и ликвидация недостачи. Причем все это происходит за один день; то ли серый волк очень быстрый попался, то ли лес маленький, даже не лес, а посадка… а еще его к тому же плющит, и временами кажется, что зовут его Владимир Яковлевич Пропп. И вот, значит, свадьба, сидит Иван Дурак с невестой за столом, все как положено, а тут первая брачная ночь. Ну, Иван внезапно приходит в осознание и понимает, что голову он царевне срубил около реки, и ее, наверное, уже мусора нашли, а в постели лежит трехголовый Змей Горыныч, который хочет любви, и наш герой так, бочком, тихонько к двери.…А Змей Горыныч ему с таким, знаете, эротическим придыханием:
- Куда же ты, Ванюша?
Вот, типа, и сказочке конец.
- А вы братья? – Спросил я.
- Да какая вообще разница - братья, сестры. Вот у тебя братья есть?
- Был один.
- Что, уже нету? Да ты не расстраивайся, родственники – это еще те существа.
- То есть?
- Вот у тебя есть подруга, то бишь твоя девушка, и ты не хочешь ее бросать, потому что какие же нормальные парни бросают таких хороших девушек, если у них еще не появилась новая?
- Ну. Типа того.
- Старик, наплюй на свою подругу, ну нахрен она тебе далась, в конце концов, ты можешь подрочить. А что, замена, в принципе, при богатом воображении, вполне нормальная.
- Подрочить?
- Шутка. Можешь не дрочить, дело хозяйское. Я тебе просто указываю на то, что ты никому здесь не должен и ничем не связан. Считай, что тебе повезло вступить в дерьмо, а я показываю, как от него отряхнуться.
- А родители?
- Ты помнишь, что Христос говорил о родных? Ладно, по глазам вижу, что не помнишь. Короче я скажу тебе то же самое – они тебе никакие не родные. А, вижу застывший в глазах немой вопрос. Ну да, относиться так к людям, которые тебя вскормили, воспитали, опоросили…, не, это не оттуда… так вот, во-первых, если бы они действительно смогли тебя воспитать, то ты был бы одним из тех уродов, для которых попытки вербализовать впечатления окружающего мира свелись бы к двум прилагательным и четырем глаголам.
- Но это же мои родители! Мои отец и мать!
- Да ты что? Не ты ли открыл для себя в подростковом возрасте основной закон энергообмена детей и родителей – ты тратишь слова, они дают тебе деньги, и, в принципе, родители больше ни на что не пригодны. Ага, вспомнил! Ну, в общем, ты был прав. Ладно, ты собирался что-то рассказывать, начинай.
Угли слабо тлели, и звезды становились все ближе и перемещались в разном направлении, пока, наконец, я не прочел: «Каждая просьба приближает тебя к смерти». Подхватывая на кончик ножа еще консервов, я стал рассказывать:
- Мы вываливаемся толпой из чрева автобуса, уютного четырехколесного ковчега. Может быть, со времени потопа вода так и не спала, а все как-то незаметно для себя приспособились жить под ней?
Севэки.
Мы вываливаемся толпой из чрева автобуса, уютного четырехколесного ковчега. Может быть, со времени потопа вода так и не спала, а все как-то незаметно для себя приспособились жить под ней? После электрического света глаза долго не могут приноровиться к темноте.
- Сколько времени?
- Одиннадцать двадцать. – Отвечают мне.
«Спасибо» не говорю, не до того. Нужно определить место, где мы находимся, ну хотя бы приблизительно. А вдалеке уже слышится четкий, пульсирующий ритм, как от того земляного сердца, что видел я в прошлом году. В воздухе дрожат вывески на стенах оздоровительного комплекса, огромные, красные, наивные в своей неуклюжести буквы, маленький островок Совка. Мягко ступая по вымощенной плиткой длинной аллее, окруженной кипарисами, принимаю дары от храмовых проституток, перекидываюсь словами с фрагментами тел собеседников. Какая дикая, дивная ночь! Я и мои новые знакомые остановились около скамеечки делиться трансцендентным, скамейка деревянна, словно был рядом с ней лет пятьдесят стоял дом, а в нем старик, что скроил ее ладно. Но попала в дом бомба, и только с тех пор скамейка уцелела. Во рту одурманивающий до тошноты вкус цитрусовых. Снег, рядом безликие, безымянные кусты и идут никуда-то рельсы. Хватит ли мне?
- Идемте искать. – Говорит Оля.
Мужчина в растаманском берете опасливо ползет вдоль деревьев, а мы подходим к двухэтажному частному дому, феодальной вотчине суровых земель. Из него выходят люди и приподнимают часть забора наружу, черные чертоги ночи очерчены полукругом света витрины. Частота ударов по воздуху превышает все мыслимые пределы, мы погружаемся в первобытный, допервобытный танец. Если это увидят местные жители, то, ручаюсь, они завоют и сбегут. Запах обволакивает, очерчивает зону растворения, и ряды людей безмолвно покачиваются в ритм, совершают плавные, или, иногда конвульсивные жесты. Таежными тропами ходит росомаха. Чу! Опала с ветвей шапка снега, взлетели птицы, в вечной тревоге высматривая опасность. Но им сегодня бояться не стоит, а вот ананас затрепетал всем телом, почувствовав, как ветер несет над снегом хищный запах. Зеленые глаза сверкают из-за промерзших стволов, и ананас, резко подскочив в воздухе, помчался, петляя, все быстрее и быстрее. Но росомаха уже почти рядом, скалясь на бегу презрительной усмешкой, мол, где тебе. Ее ноздри чутко ловили след, оставленный чешуйками с ананасячего тела, а лапы продолжали делать свое дело, и вот уже расстояние между охотником и жертвой неумолимо сокращается, и, наконец, кровавый финал. Пробираюсь между серыми громадами валунов, закинув копье на плечо, веду Ольгу дальше. Протекая по подземным водам, я нередко видел, как земля меняет свою окраску. Я был бы огромным, сильным животным, если бы захотел. Но пока я был землей, то не имел формы и цвета. Когда-то я был растением, деревом на окраине леса. Каждую секунду весны и лета я чувствовал, как растет каждая крошечная часть моего тела. Черный поток снизу и красный сверху пронизывали меня насквозь, превращаясь в мое тело, распрямляя сердцевину, заставляя расти листья. Душа, между тем, все скулит и тревожится, «дура», говорю я ей, (это девушка лет двадцати пяти), «все будет ништяк». Не верит. Ничего, пока дойдем – успокоится, идти нам еще далеко, успеем семь пар кед стереть, Оля должна попасть в одно из самых отдаленных и труднодоступных мест нижнего мира.
Когда она умерла, был жаркий, летний полдень, в тени осыпались комары, пахло пылью и резиной шин. Водитель, ее сбивший, был в этот день банально нетрезв, выпил пива, посидел на солнышке – такое случается. Теперь он, кажется, сидит. Раз в неделю мимо его тюрьмы пробегает собака с пятнами цвета какао. В этот раз мне почему-то захотелось соприсутствовать на похоронах, хотя ясно было, что ничего нового я там не увижу. Гроб с внутренней стороны обдали кипятком из чайника, а затем смазали кровью. Рот и анус покойной заткнули кусочками тряпки, руки привязали к туловищу, а ноги стянули вместе широкими кожаными ремнями. Священник выстругал деревянную фигурку в ладонь величиной, обмазал ей губы мороженным и подносил к вырезанному рту дымящийся, облегченный «LM», делая затяжки сам. Затем гроб с телом вынесли на крышу пятиэтажки, и на веревках спустили вниз. В морге на ее лице загримировали следы от аварии, вставили в уши сережки, на грудь повесили несколько пар бус, одежду расшили золотыми бляшками. У ее левой руки лежал мобильный, пульт от телевизора и косметичка, Оля была не слишком духовно развитой девушкой. Через несколько часов ее отец пошел смотреть боксерский чемпионат по второму каналу. Несомненно, современные бои без правил, соревнования по боксу и другим видам боевых искусств, а также фильмы на эту тему являются типологически тем же, что и гладиаторские бои в древнем Риме. Наиболее успешные из гладиаторов становились объектами поклонения для римской черни. Олина душа, стояла в углу и плакала. Никуда уходить ей не хотелось, а хотелось остаться, но именно этого нельзя было допустить. Сейчас мы идем по снегу, и я с интересом наблюдаю за ее повадками. Как куница.
- Как тебе твое новое тело? – Спрашиваю я, щурясь от мелькнувшего между ветвей утреннего солнца.
- Так оно такое же, как и старое! – Ответила она, взметнув хорошо пахнущие шампунем волосы.
- Нет, без следов от аварии.
Надулась, опустила длинные ресницы, надеется на фразы сочувствия.
- Ты куда вообще глядела? Тебя в школе не учили, как дорогу переходить нужно?
- Ну учили. Откуда я знала, что этот пидор так резко из-за угла выскочит?
- А отскочить не могла?
- Не могла, сам видишь.
- Я тебе искренне сочувствую.
- Да пошел ты…
- Слышишь, Ольга, как тебя там по-батюшке…
Я улыбнулся петляющему между ветвями ветру, мол, ты не думай, я еще не дошел до такой степени маразма, чтобы обижаться на.
- Так вот, Ольга, я тебя сейчас могу оставить здесь. А ты иди куда знаешь.
- А куда мы вообще идем?
- Ну, идем. Куда-то. Я сам не знаю. Шутка. Идем в положенное тебе место в этом мире.
- То есть?
Но меня объяснять дальнейшие подробности обломало, я слышал как она плетется следом и был спокоен, спокойнее попадавшихся на пути поросших мхом валунов. Темнело, рваные облака нагло и неотступно лезли на Луну, рогатки ветвей тихонько качались в такт далеким тихоокеанским прибоям. Вдалеке, за холмом дрожало зарево, мы свернули с тропинки и пошли туда посмотреть. Там вовсю горела деревня, бревенчатые избы весело трещали, рев домашней скотины разносился холодным, чистым воздухом на многие километры вокруг. К нам подошел услужливый китайский официант, культовая фигура полузабытых кошмаров транссибирской магистрали и предложил шампанское. Его длинные насекомообразные усы подрагивали в ожидании чаевых. Стоя на холме с бокалами, я и Оля весело наблюдаем за попытками местных жителей спасти из сараев свою нехитрую утварь и затушить пламя водой из колодца.
- Идем поможем? – Спрашивает она.
- Пожалуй.
Набрав в одном из сугробов полный сапог снега, останавливаюсь его вытряхивать, а Оля побежала от колодца с ведром воды к ближайшей избе. Когда я подошел, все выстроились в цепочку и передавали ведра друг другу. Через несколько часов пожар был потушен, стали искать виновных. Я подошел к журавлю и потянул его за клюв вниз в черную дыру, он тоскливо заскрипел и черканул ведром о поросшую мелким мхом стену. Ручка ведра скользнула по железному крюку, и оно накренилось так, что воды я достал совсем чуть-чуть. Я зачерпнул второй раз, перебирая руками, достал густую, прозрачную жидкость, и не прислоняясь губами к каемке начал пить. Но вода все колыхалась, попадая мне в нос, я поставил ведро на скамейку возле колодца и осмотрелся. Дымились чернеющие стены и крыши, при свете фонарей поблескивали капли на линии электропередач. Вдалеке что-то выло, погорельцы, наверное. Около колодца постепенно собирались мужчины и женщины, и через несколько часов все были пьяны. Переночевали мы с Олей в одном из домов.
Севэн.
С зачарованной и тихой грустью
они слушали музыку мертвого мира,
звучащую в летней ночи.
Стивен Кинг.
В старинном английском поместье праздновали день рождения хозяина, Винстона Честерфилда. Собаки уже собрались под столом, нетерпеливо сокращая мускулы своего породистого тела в ожидании подачек. Сын хозяина, Алистер Честерфилд уже в третий раз заказывал виски в качестве аперитива. В стойлах тепло дышали лошади, косясь большими, красивыми глазами на похотливого конюха. И только в боковой комнате на третьем этаже было непразднично – там лежал труп. Трупы в английских поместьях – дело, в общем-то, привычное, но не на праздник же! Первым об этом досадном инциденте узнал дворецкий. Дворецкий носил сюртук, живот, бакенбарды, и всем своим видом напоминал сонного моржа, которого везут из Антарктики в Лондонский Королевский Зоологический Сад, а чтобы он не пугался высоты, когда будет выглядывать из окошка, его накололи димидролом. Он не спеша оглядел умершего, отметив про себя, что росту покойный небольшого, а затем прошествовал в комнату рядом с банкетным залом, где около камина грелся Честерфилд - старший. Проходя по коридору, он с интересом прислушался к диалогу двух польских дипломатов, семейной пары, приехавшей в страну совсем недавно:
- Ты видишь эти симпатичные руины, Павел?
- Да, только это не руины, а верхняя часть фамильного склепа.
- Но почему он в таком состоянии?
- Ах, Катажина, ты же знаешь, что эти английские лорды никогда не будут ничего реставрировать. Они думают, что это обновление повлечет за собой утрату той исторической значимости, той благородной старины, которая…
- Я думаю, что скоро склеп обвалиться, и мать твою, куда ты лезешь? Не хватай меня, не ешь книги именинника, только не третий том Тойнби, это же его библиотека, а она старая, вся в пыли, ну что же ты, глупенький, вот так, вот так, не обращай внимания на потолок, посмотри – видишь, это твоя звездочка, сегодня она светит так же ясно.
«Какие интересные люди. Надо бы с ними поближе» - подумал дворецкий. Не ведала бедная прислуга, что им манипулируют как марионеткой с помощью интертекстуальности и сочетания немыслимых парадигм. У Алистера запищал телефон. Он взглянул на оленьи рога, висевшие на стене, вспомнил, как он с отцом преследовали оленя аж до графства Кент, посмотрел на болотный экран мобильного. Было принято сообщения от его старого любовника по колледжу: «Поиграем завтра в крокет?» Алистер уверенными движениями набрал текст ответа «Я беззубый самец, утонувший в чашке капуччино. Ты думаешь, что ты знаешь жизнь? Погоди, щенок, я покажу тебе, что такое стирать белье отбеливателем». Затем он положил телефон на журнальный столик и нашел то место в книге, на котором он остановился. Страница начиналась с новой главы, называвшейся:
Главная трагедия докембрийского периода.
Докембрийский период – и течет река. Ледяная, темная до одури лента, в глубине которой плавают неуклюжие, покрытые костяным панцирем рыбы, еще не обладающие даже своим собственным скелетом. Каково! Некоторые из них похожи на пылесос, а некоторые точь-в-точь кофейник, плывущий в вечном поиске пищи по единственной, известной ему субстанции, не доверяя собственным глазам. Там ведь темно, поэтому и глаз у него никаких нет, но его ощущения подобны ощущениям боевиков и спецназовцев, мгновенное чувство-импульс, кажется, еще немного – и его возьмут на собеседование, а затем и на работу крупнейшие японские компании по производству высокотехнологичной аппаратуры. Над рекой ни деревца, лишь потрясающий пейзаж из каменных плит, что лежат, одна по соседству с другой, цвета пасмурного неба, такого, каким оно бывает 19 марта в умеренных широтах. И весь берег испещрен этими плитами, и кроме них и реки в округе больше ничего, и среди этого фантастического пейзажа слабо пахнет озоном. В чем же трагедия докембрийского периода, спросите вы?
Трагедия докембрийского периода в том, что увидеть это абсолютно некому.
- Сэр, в восточной комнате труп.
- Хорошо, принеси мне еще виски. Постой. Гости уже собрались?
- Да, сэр.
Дворецкий закрыл дверь в дикие каменные трущобы негритянского района, где жизнь не стоит ломаного гроша и не спеша пробираются стаи на север все на север в диком неистовом движении разрывая условия договора и мне уже больше не недоступны челюсти больных пародонтозом и такими же спокойными шагами прошел к бару, где стоял виски. Там же стояли я и Оля, впрочем, из-за близости к бару, несколько неуверенно, хотя пребывая в самом лучшем расположении духа.
- Ну что, нашли труп? – Спросил я, доверительно наклонившись к его уху.
Он скривился и метнул настороженный взгляд на дверь.
- А вы откуда знаете?
- Да уже весь дом знает, кроме именинника. Идите, сообщите ему.
Дворецкий, нервно оглядываясь на меня, вышел из комнаты. Оля веселилась вовсю, ничуть не смущаясь абсурдностью ситуации. Хотя. Это не совсем так – она попросту не чувствовала никакой абсурдности, мир она воспринимала чувственно-фрагментарно, так что никакой опасности для ее психики не было. Я уже давно свыкся с жизнью в различных зонах нижнего мира, поэтому сел за прозрачный журнальный столик, вырвал из блокнота листок и написал:
Обветшали веки, закончились огрехи,
Скинул плоть рубахи – истомились швы.
Заплетайте в узел свинцовые прорехи,
Широко гуляйте до берега весны.
Я не знаю, как жить в этом спившемся мире,
Зацепившись за прутья седых эполет,
Остаюсь зимовать в полуголой квартире,
Потеряв в кабаке свой последний билет.
От безумных широт до бескрайних побегов,
От тюрьмы и сумы на златых костылях,
Я оставлю себе офицерскую форму,
Бубенцы с колпаком и петлю на плечах.
Затем встал на кресло и прицепил с помощью взятой у Оли заколки мое высокохудожественное произведение к люстре. Пускай поразмыслят, им, буржуям, полезно. Ла?
Дох.
Койот – великолепный парень.
Он знает все вещи, и его просто
невозможно уничтожить.
Индейцы скиди.
Олю я проводил в ее город мертвых на правом берегу моего притока рядом с небольшой посадкой. Там уже жили ее родственники, несколько женщин, один мужчина и много жилистых старух. У Оскара Уайльда в одном из рассказов значилось, что «со старух взять нечего – они воняют и скоро умрут». Вот такие вот эмалированные дела – проводил эту дурочку в город, прошел по склону реки, где грузовики вытоптали глубокие тропы… делать особо нечего, скучно. Если бы я был бесом, то девушки перестали обращать на меня внимание. А я ни дня не проживу без него – оно как лесной ручей, звонкое, холодное, с пиявками. Быть бесом несложно, нужна лишь красная кожа, сафьянная, да кривые ноги, чтоб бегать на шабаш. И души у тебя нет, не жариться тебе в аду на сковородках, но все же.… Являешься ты какому-нибудь колхознику, которого окружает с одной стороны грязь, а с другой – кабельное телевидение, и понимаешь, что, в сущности, толкать этого ублюдка на греховные поступки смысла не больше, чем ветер решетом ловить. Он ведь обладает не большей духовностью, чем любое, из принадлежащих ему сельскохозяйственных орудий (грабли, комбайн, палка-копалка, кремневый топор, трактор ets), а нравственные критерии его принадлежат области коллективного сверхсознательного. К тому же старики часто путают беса с комиссаром-евреем, и стреляют по нему дробью на уток почем зря. В общем, не к спеху мне бесом быть, да и не предлагает никто.
Дома только-только просыпались, подмигивая мне вспышками стекол, надо найти сигарет. Зимой вкус сигаретного дыма меняется, как-то мне одиноко. Зима, раскинув руки, лечу проводами. Зима, я сегодня не с вами. И только взгляд усталой продавщицы мне скажет – «Езжай домой». Ветками, мерзлыми лапами, все не спеша. Прохожие, пряча руки в карманы, следом бегут за теплом. Тот, кто услышит эти слова никогда не сможет заснуть. И в равнодушной, пустой белизне холодного, мглистого неба, далекий гул поезда даст мне совет – «Езжай домой». Я зашел в местную церквушку понюхать ладану. У ограды стоят нищие, те, кто в этот ранний час заходят в церковь, отвечают им обычно – «Бог подаст». Проходя по хорошо выпеченной корке асфальта, часть из них скользит в лавку, где продается религиозная литература, бронзовые ножи, разного калибра свечи, трехлопастные наконечники стрел, крестики, фрагменты керамики с прочерченным орнаментом, пряслица, костяные мотыги. Другая часть заходит вовнутрь, мимо приоткрытой створки огромных дверей, я вместе с ними.
Строгий лик Богородицы навевает воспоминания, они подхватывают меня на руки, несут в недостроенный дом.
- Забудь. – Кричит мне вдогонку весна. От нее хищным, острым запахом.
Как же мне ее забыть, рыжую чертовку, когда мы так славно нюхали клей в этом заброшенном здании. Не могу ничего поделать, я чувствителен, вот и сейчас гляжу на пятно луны, ползущее по раскрашенной граффити стене, и думаю «Ведь весна могла бы сидеть сейчас у окошка в маленьком домике, и дожидаться меня. А я бы есть приносил». Стальные когти царапают возникающие из сигаретного дыма понятия дружбы, красоты, справедливости, алмазных на вкус. Мы ходим по пятому этажу, где и встретились, из подвала доносится мышиная возня бомжей, и я ослепительно горд собой – так ловко перепрыгиваю огромные дыры в полу.
- Ты куда бежишь? Осторожнее!
С чего я взял, что она просила меня ее забыть? Наверное, всему виной распластавшаяся крестом с картин Дали картонная коробка. Весна машет хвостом, с него сыплются огненные искры, освещая зловещие потёки в углу – то ли следы от мочи, то ли от жертвоприношений. В огромных, широких просторах моей славноизвестной родины находится то, что не передать совами. Мы решаем подышать еще, и я наливаю клей из тюбика в целлофановые кульки – себе и ей.
- Ты похож на космонавта, - весело смеется она, - точно, похож.
- Почему на космонавта?
- Я читала, что в условиях невесомости они могут есть только из тюбиков. В одном у них, например, жареная картошка, а в другом – манная каша.
В кульке перед употреблением должен находиться воздух, чтобы целлофановые стенки не прилипали друг к другу. Кто-то идет сквозь бурьян, я бросаю в него шершавый кусок кирпича. Кирпич на мгновение застывает в оконном проеме, а затем летит дальше. Там, откуда я пришел все сплошь метель да машины, и последний осенний полет над домами птицы стараются сделать незаметным, чтоб увидели только свои. Такие времена нынче пошли – или волк, или пропал. Моя душа, качаясь на хлипком, веревочном мосту, молчит в ужасе над серыми, ревущими водоворотами.
- Идем на крышу. – Говорю я ей.
Она молча соглашается, и мы вместе опасливо взбегаем по полуобвалившимся ступенькам наверх. Ночь несется на закусивших серебряные удила черных конях сквозь степной ковыль навстречу стальному мечу радиовышки, откуда в семь сторон полетят сигналы – «Music’s over». На крыше, присев на корточках, грустит смуглый перс. Услышав, как мы поднимаемся наверх, он оглянулся и спросил, что мы здесь делаем. Сначала я хотел ответить грубостью, но, вспомнив, что родители меня учили быть вежливым с незнакомцами, сдержался и ответил:
- Собираем мысли.
Тут я заметил, что перс уже успел уйти.
Усевшись на рубероид, весна щелкает пастью и прыгает вниз. Я за ней.
Пролетая, мы успеваем заметить чьи-то желания, ноги, свечи, плавные контакты на полосатой простыне, и весело и страшно, и нет ничего, что могло бы остановить падающего. И вот внизу бог клея раскидал свои желтоватые щупальца по дну туннеля, и его хохочущий рот выпускает из себя пару метров розовой плоти языка.
- Пошел к черту отсюда, - кричит он, - это мир мертвых, это мертвый мир, миртвый мёр.
- Обновить тебе лекало, чертова кукла? – Спрашивает весна.
- Да! – Поддерживаю я ее. – Обновить?
Бог клея ловит нас щупальцами и пристально рассматривает.
- Не боитесь?
Тогда я, улыбнувшись весне, назвал его имя.
Альбэ.
Стас ехал на работу в своем самом обычном утреннем расположении духа. Это был мой старый знакомый, хороший человек, в ботинках. Его кровь не волновал аромат духов от стоящих рядом красивых девушек, что перемешивался с естественным запахом их молодых тел, не раздражал отечественный музыкальный суррогат, который крутили по экрану, висящему над станцией, и вызывающему у внимательного прохожего аллюзии с романом Оруэлла. КРАСНОЕ Он был в состоянии сонного анабиоза, и космический корабль метрополитена, разрезав как масло, миллионы световых лет, доставит его тело на Пушкинскую. Посмотрев на тусклое отражение своего лица в мутной душе вагонного стекла, Стас вспомнил, что побриться он забыл. И тут поезд, прорывающийся сквозь галактический портал, основательно тряхнуло, и на начищенный носок его туфля наступила тяжеловесная нога стоящего рядом мужчины лет тридцати, и, судя по всему, вставать оттуда не собиралась. Кто знает, как развернулись бы дальнейшие события, если бы случайно Стас не увидел, что хам этот в стекле совершеннейшим КАТАМАРАН образом не отражается. Конечно, следующим его поступком (весьма опрометчивым), был тревожный поворот головы и громкий лай. Пассажиры недоумевающе посмотрели и расступились вокруг – мало ли, еще укусит, псих эдакий. Мужчина, обладавший приятной, хоть и несколько угловатой наружностью, тоже отступил назад, и на следующей станции вышел. Стас, краснея под взглядами, доехал до Пушкинской и быстро пошел к выходу вдоль колонн. Но тут два милиционера, до этого стоявших, опершись локтями на турникет, разделявший вход и выход, вежливо ему представились и пригласили пройти в гостеприимно распахнутую деревянную дверь, за которой был виден кусочек безликого коридора.
- Повели? РАСПАХНУТЬ – Необычайно, как показалось Стасу, для подобной ситуации веселым голосом спросила ментов девушка, сидевшая в стеклянной будке, контролируя проходящих через турникеты граждан.
- А тебе какая разница? – Небрежно ответил один из них, тот, что повыше. Как уже давно замечено, если милиционеры дежурят в паре, то один из них плотный, росту небольшого, с побритой головой, а второй – длинный, худой, и обладающий волосяным покровом на голове большей длинны, чем у первого.
- Я тоже ничего не ела с утра.
- Тампокс выжми. – Засмеялись служители ТРАНСЦЕНДЕНТНО правопорядка.
В комнате сидел еще один, черноусый, с бегающими глазами и отвисшей щекой, допрашивая какую-то шмару. Стас сел на скамейку, с любопытством рассматривая висящий на стене огнетушитель, пламегаситель, испускатель струй. И тут поднялась горячая волна, накрыла с головой усатого капитана, шмару, стены и заполнила ВЕЧЕР собой всю комнату. Он помнил лишь, как валился на грязный пол, и полз, полз, словно гигантский трилобит к выходу. От кафеля веяло могильным холодом, но тело жгло раскаленным воздухом.
Когда я встретил его, он был уже почти что пьян от болезни.
- И ты не помнишь, что именно случилось? – Спросил его я, одним своим волчьим ухом прислушиваясь, как стучит, прося открыть, дождь по окну. Стас втянул голову в плечи и наклонился вперед, так что с кресла, где он сидел, сползло покрывало. Вдоль цветущих растений шагает тихой сапой чума. Неслышно пробирается в дом, отдергивает полог, смеется.
- Помню, как домой пришел, а ключей нет. Я поискал по карманам, не нашел, сел на ступеньки и заснул – это зима ведь, темнеет рано. Утром уже собрался с силами, нашел за подкладкой куртки, случайно запали.
- А деньги, документы?
- Там остались. Я еще, помню, боялся долго, что на работу напишут, но все обошлось, вроде.
- Обошлось?! Ты себя в зеркале видел?
Тут он повернул ко мне лицо, и мне пришлось посмотреть в глаза. Это были просто куски стекла.
- Я могу тебе помочь. – Сказал я без особого желания, и сам удивился. Передо мной сидит человек с похищенной душой, которому жить осталось всего полгода, а я ко всему этому как-то равнодушен. – Почему ты раньше со мной не связался, у тебя же мой телефон есть.
- Я ничего уже не хочу. – Ответил он и судорожно вздохнул.
- Ага. Что тебе сегодня снилось?
Тут Стас оживился, достал смятую пачку, и закурил. Серая дымка поползла по стеклу, тщетно пытаясь обвиться вокруг пыльной лампочки. За окном виднелись последствия долгого общественного строительства. Отношения между СССР и Западом зависели напрямую от тех эгрегоров, что контролировали территории по обе стороны железного занавеса. С одной стороны активно курящий Зигмунд Фрейд, с другой хаотично бородатый Карл Маркс определяли ход мыслей каждого из людей и направление развития всего общества в целом. Если на Западе шло активное освоение внутрипсихического пространства – PR, права и свободы людей, женщин, животных, то в СССР большее внимание уделяли внешне обуславливающим факторам - …
- Бред такой, расскажу – не поверишь.
Он остановился, ожидая проявлений заинтересованности с моей стороны, и не дождавшись, продолжил:
- Начался сон как бы посередине, откуда-то внезапно появилось знание о существовании вдовы Анны, с которой через восемнадцать дней случится что-то нехорошее. Я вдруг увидел, как она ходит по квартире, заламывая руки. И вот, по прошествии семнадцати дней, вдова прячется в коридоре, за старым и огромным ящиком для грязного белья. Она ждет, сидя на корточках, и глупо смотрит на стену напротив. Тут дверь открывается, заходит огромный такой дог, стучит когтями по линолеуму, проходит мимо вдовы и ложится на кухне. А она, понимаешь, с детства собак боялась, как увидит на улице – шарахается в другую сторону. Поэтому вдова осторожно так высовывает голову из-за ящика, как солдат из окопа, и видит, что дог открыл лапой дверь под раковиной, где мусорное ведро стоит, и что-то оттуда жрет. Ситуация складывается для вдовы совсем не так, как ей хотелось бы, во-первых, она ждала человека, а не собаку, а во-вторых, неизвестно когда эта тварь уйдет и что у нее вообще за характер. С другой стороны, не будет же она терпеть, чтоб в ее квартире хозяйничала эта… Тут Анна подумала такое слово, что право, сказать мне его будет неловко. С этими героическими мыслями Анна берет швабру в руку и идет на кухню, а собака скалит клыки и рычит. Тут вдова понимает, что крупно ошиблась, пятится, потеет, потом разворачивается, бежит в гостиную и закрывает за собой дверь. Потом садится на кровать, машинально включает телевизор, видит перед собой недоеденный обед, и забывает о собаке, и смотрит свой любимый сериал, и ест машинально. А пес тем временем заснул. Что было дальше – неизвестно.
- Понятно. – Сказал я, побарабанил пальцами по столу и открыл форточку. В этой ситуации, прежде чем отправляться за его душой, нужно было удостовериться, что жизненных сил ему хватит, чтобы меня дождаться. Я сел на корточки и начал в него говорить:
«Заходи ко мне, раз пришел сюда и стучал в окно и просил воды. Отмечай со мной благодарный день, ледяную ночь моего рождения.
То не снежный пес вдруг залаял вдаль, то не снежный пес обратился в шприц, запрягаю в путь боль нечистую, по просекам грач отпоет меня.
Растолкованный небом муторным, притаившийся за немой стеной, вою на Луну, неприкаянный, нераскаянный, непокрещенный, черным деревом снам обещанный.
Не угли костра то погасли вдруг, не угли костра, а глаза мои, подпевает сердце гнилым яблоком, в узелок ноги-руки завязаны.
А зарплату свою отдаю ворам, пусть потешатся да нагуляются,
Будут пить, и бить звезды черные, звезды черные, пасть дремучая.
А подарки всем раздаю гостям, дорогим гостям, пусть порадуются. Гостя три сидит у огня-меня:
Первый гость топор, медный молодец, рубит ветки с корнем на сухой метле; за вторым гостем не угнаться мне, убегает дым между пальцами; ну а третий гость – золоченый гвоздь, им гробы забивают лет уж тысячу.
Вот и праздник мой удался теперь, ты богат и сыт, и почти что брат. А теперь иди, не считай года, холода-года, что скрипят по мне. Уходи к заре, вспоминай раз в год этот светлый пир,
даст бог – свидимся».
В комнате запахло озоном, я внимательно посмотрел на его лицо. Стас улыбался.
Каскет.
прошел пять часов без глотка
воды. думаю, что готов к
пустыне, хочешь со мной? я
возьму своего пса, с ним
всегда весело, заскочу за тобой
в семь
Боб Дилан.
Из моря вышла жизнь, уж не знаю зачем. Пронзительно, словно испорченные бытовые приборы, шумят над моей русой головой чайки, улетая за громаду скалы. Я держусь руками за толстый канат снастей, и гляжу на белую полосу пены, что оставляет за собой наш корабль, словно змея, вечно жаждущая сбросить кожу. Хорошо, что вонь побережья, наконец, сменилась свежим запахом того ветра, который бывает только на море, и целую вечность готов глядеть вниз, и так и тянет броситься сквозь волны. С сердцем, пронзенным тоской, с помутившимся разумом, я больше не вижу свою Дхарму.
- Эй, - говорит мне матрос, - смотри, не свались.
С этими словами он достает сигарету и закуривает, спрятав пламя зажигалки от ветра между клешнями. Его суровое, бритое лицо украшает маленький шрам в районе виска. Я взялся руками за поручень, посмотрел в висящий на стене спасательный круг и вспомнил, как холодно в Харькове зимой.
- А ты малый не промах. – Замечает он.
- А то. – Не без тени самодовольства отвечаю ему я. – Могу две недели не есть, и ходить босиком по снегу.
- Врешь. – Качает завистливо головой.
- Вот те крест. Зуб даю.
Горы скрипят под южным солнцем, в воде плавает веселая железная бочка. Мы уже приплыли, а я сохраняю в кармане билетик, с синим, словно вытуированным на плече якорем. А может, их именно поэтому так и изображают, постоянно имея перед своими глазами посиневшие татуировки Морфлота. Как бы то ни было, я вышел на пристань, лениво купил себе бутылку пива, и зашагал по вымощенной бетонными, похожими на советское печенье плитами, уныло распластавшимися вдоль магазинов разнообразной бытовой техники. Трутся друг о дружку листья на высоких деревьях, шепча с усмешкой о дружелюбно помахивающем им головой башенном кране, который, я уверен, местные жители видят на этом месте не один год, и расставание произойдет еще не скоро. Так рождается трагедия из духа музыки, что звучит из ближайшей забегаловки, накрытой, словно ставка Темучина, шатром, и вечером в ней будут сидеть воняющие мужчины и их дамы; наши женщины отличаются поразительной способностью возвышаться над обстоятельствами. Небо в просветах домов показывает мне облачко, словно кукиш, намекающий на то, что все лавочки вдоль дороги заняты, и то же написано, наверное, на полуободранных объявлениях, ранеными бойцами свисающих с металлического синевыкрашенного стенда. Огражденная низкой, железной цепью Амстердама, угрожающе смотрит выставка-продажа дорогих машин, по их гладкой поверхности скользит солнце, я слышу, что у компании молодых людей об этих машинах оживленная дискуссия. Но видно, что парни из рабочих семей, и таких машин у них не будет никогда, поэтому разговор меня смешит. Все равно, если бы средневековые крестьяне принялись обсуждать достоинства лошадей феодалов, высказывая поразительную осведомленность о том, сколько какая жрет сена.
С рекламного плаката своей страшной зубастой ухмылкой сверкала девушка, жующая жвачку. В Сибири есть сказка, где три охотника, заблудившись во время метели, полузамерзшие, голодные, случайно набрели на чум. Там их встретила женщина, и, сжалившись, накормила, оставив ночевать. И вот посреди ночи первый из охотников залазит на женщину сверху, но через минуту вскрикивает и отваливается от нее в сторону. Мертвый. Второй охотник пополз повторить печальный опыт первого и тоже остался лежать мертвым на полу чума. И только третий догадался взять в руки камень и выбить у женщины зубы в пизде. Короче, хэппи-энд.
Непрерывное многовековое развитие не позволило нашей стране превратиться в процветающую державу. На большинстве лиц встречаемых на улице сограждан я вижу печать принадлежности низшей из трех гун, иду на пляж искать душу Стаса. Остановившись поглядеть на море, за своим загорелым плечом я слышу голос.
- Я вчера смотрел по телевизору, что Луганск теперь подчинен Николаеву, и должен каждые четыре года посылать туда десяток девушек и юношей из модельных агентств. Их запирают в здании мэрии Николаева и отдают на съедение человеку с телом бультерьера, который, по слухам, приходится сыном жене городского головы.
Я обернулся, щурясь от Солнца, и увидел за левым плечом того, кого искал. Это был грузный мужчина средних лет в полосатых купальных шортах и панамке, его тело покрывала невысохшая вода вперемешку с потом.
- Ну и при чем тут крито-минойские аллюзии? – Усмехнулся я, глядя, насколько он доволен своей шуткой.
На лице толстяка отразилась некоторая суетливость.
- Ну, море, чайки, вино – вот и получилось… Владимир.
- Проводник. Ты зачем душу Стаса забрал?
- А зачем она ему?
От такого вопроса я опешил. Разумеется, я вижу, куда он клонит – зачем человеку душа, если он не пользуется ее возможностями. Но в спор я с ним вступать не собираюсь, пусть обломается.
- Тебе оно надо? Не твое дело, давай душу быстрее. Я спешу.
Говоря это, я прекрасно понимал, что просто так никто ничего мне не отдаст.
- Ты дурак? Или ты дурак? Иди, гуляй.
- А если я тебя сейчас ударю? Ты же знаешь, что синяком тут не отделаться.
- Я же могу и ответить.
Группа молодых людей пускает руками друг на друга брызги по воде, и мне хотелось бы сейчас оказаться среди них. И ты не можешь не рубить мясо. Ты не можешь не есть мясо. Ты не можешь. У тебя все не твое, ни одежда, славный фартук мясника, ни то, чем ты пользуешься на работе – хорошо сделанным ножом с широким лезвием. Главное не думать об этом, удовлетворяя свои потребности в сексе, хотя впрочем, если и подумаешь, то ничего для тебя не изменится. Владимир открыл рот, собираясь что-то сказать, затем закрыл, подумал и произнес:
- Ну давай ты мне поляну выставишь.
- Хорошо.
Всю ночь мы с ним пили на пляже, изредка ныряя с камней, что торчали над морем мерах в пяти от берега, а утром он пошел домой. Истертым утром я гляжу, как с морского побережья волнами сносит все живое. Пусть сносит, ну его к черту. Я ощущаю себя древним и уставшим, стою тут, на двадцатом этаже мировой горы и смотрю, как рушится мир. Шучу, не все так апокалептично, разве что пару десятков отдыхающих в море унесет. Вообще, какая нелепая идея отдыхать на общественном пляже! Все мы – диски Бога. Он вынимает нас из специальной подставки для дискет, вставляет в свой божественный компьютер и смотрит. Или слушает. И хотя из того, что аудио –видео материал диска имеет свое начало и завершение, диски делают вывод о своем рождении и смерти, на самом деле мы просто вечные носители информации, и любой момент нашей жизни четко зафиксирован. При таком раскладе глупо думать, что ты можешь что-то менять в своей жизни, ведь если Богу захочется увидеть, как ты пьешь портвейн на побережье, то ты будешь находиться именно в этом моменте времени, но из-за несовершенных способностей восприятия считать, что ты делаешь это в первый и последний раз именно при таких обстоятельствах, так как каждый момент «неповторим». Вся информация об этом феномене бытия тоже храниться на дисках, но не на всех. Как определить, записана ли она на вашем диске? Очень просто. Если вы это читаете, значит записана. Чувствую себя так, как будто меня долгое время уничтожали, похмелье, знаете ли. Набросилось на меня хищной птицей (мне давно пришло в голову, что миф о Прометее, и каждый день выклевывающим у него печень орле являет собой метафору хронического алкоголизма). Свобода. Мне нужна свобода.
Хосэдэм.
Долгими, долгими заботами о происходящем испещрены посеребренные Луной барханы моих мыслей. Забытыми ночными тропинками пробирается девочка Маша, посылая на север, юг, запад и восток волны ароматных духов, ищет счастья в собственном саду. Меня держит ветка яблони, опершись на шероховатость коры, вдумчиво киваю легкому шелесту, мечтательно вспоминаю, как брызжет кровь из руки. Зачем все это?
- Маша.
- Что? – Поднимает голову она.
Рядом что-то юркнуло в траву, застучало зубами, и фыркнув, растворилось в небытии. Мысли – седые, ржавые раны. Старый пожарный увидел сон, о том, как я по-кошачьи спрыгиваю с дерева, чтобы опасливо подойти к колючей проволоке малины, сорвать ягоду и протянуть Маше. Ее взгляд – азот.
- Пойдем ко мне? – Говорит она почти умоляюще и сама себе не верит.
Отрицательно качаю пальцем, мои кожаные туфли скользят назад, я падаю и смотрю на стада ночных туч. Мы уже долгое время живем кое-как, наша одежда приобрела поношенный вид и лица обветренны. Зовет на помощь сверчок, запутавшись в зарослях травяных щупалец, что щекочут мое погруженное в ночь лицо, печальная яблоня смотрит на меня и качает руками вслед за ветром.
Маша тихо, как ручеек, плачет.
- Не плачь, не я твое счастье.
Пожарный одобрительно хрипит и постепенно открывает коричневые глаза.
* * *
- Я узнала у врача, что детей у меня не будет, - говорила мне Маша, домывая чашки с отбитыми краями и ставя их на полку одну за другой. Посреди джунглей кухни лился из крана водопад. Смотреть на этот процесс – одно загляденье. Говорила она с такими интонациями, которые, как она думала, скроют ее отношение к шероховатому происходящему.
- А муж что?
- Говорит, ничего страшного, многие без детей живут, и ничего.
- И ничего? – Я тяжело, словно собираясь на жертвенный алтарь, поднялся с табуретки. «А ведь вот такой табуреткой можно размозжить голову» - пришла мне мысль.
- И ничего.
Кундалини поднимается медленно, словно заржавевший шаттл. В мире есть всего три змеи: первая из них находится в центральной Африке, вторая – в одной из мелких латиноамериканских республик, и третья – в чертовом захолустье вашего позвоночника. Монах отзвонил обедню, унылый звук колокола разнесся над степью 1354 года, находящейся в западной части Германии. Лицо заколотого вилами обезображено уже засохшей кровью, хрипит, неровно дышит. Но я полон энергии, как шипящая жиром сковородка, что стоит у Маши на плите, и я разворачиваю ее за плечи красивым лицом к себе (причем на мгновенье у меня мелькнула мысль, что неплохо было бы вот так вот ее поворачивать и поворачивать, пока она не раскрутится, словно лунная юла), и говорю:
- Живым… ТО ЕСТЬ, НЕТ, я не то хотел сказать, я тебе попытаюсь помочь. У тебя будет ребенок. Уже завтра.
Мы пошли шататься по району. Запутавшись в дорожках, ежечасно пинаемые авоськами домохозяек, мы нервно спешим к солнцу. Сегодняшний день ничем не отличим от вчерашнего, лишь ветра нет, а берега не видать. И все текут по этой реке, не видя куда, и я мокрый и злой – холодно ведь, не лето. Перекати-поле продолжает свое дерзкое движение вспять. Промокли к своему табачному черту все сигареты, зря только покупал, а впрочем, ерунда, будет видно, что дальше делать. Я не спал черт знает сколько, все пытаюсь получить как можно больше разнообразных ощущений. И тебя несет по реке, и меня несет по реке. Почему ты этого не видишь? Куда ты смеешься?! Неприятней всего, когда вода попадает в нос, а когда мы идем в гости, то нужно брать вино, колбасу, надевать свежие носки. Такая забавная иллюзия – все думают, что перемещаются в пространстве по своей воле, да еще и в любую сторону. Шутка, ничего они не думают, вообще ничего не думают, не чувствуют, не говорят. А денег остается совсем ничего, ничего, как-нибудь.
Заходим в гости к знакомому, у него в квартире уже человек десять. Кресел, стульев и диванов здесь никогда не было, поэтому мы сели на полу, приглаживая руками ворсинки ковра. Комната вообще выглядит забавно – потолок окрыт грубо налепленной штукатуркой, создававшей какой-то пещерный уют, а в его центре висит огромный пластиковый диск с изображением ин-ян (меня от этих двух соплей уже тошнит). В два ряда висит шесть люстр, дающих ровно столько света, сколько нужно для того, чтобы разглядеть передаваемую тебе баклажку.
На экране компьютера шел какой-то отечественный фильм, и начался он, судя по всему, недавно. Я начал врубаться в сюжет: судя по всему, показывали души покойников в христианском варианте, то есть сохранивших тот облик, что был у них при жизни. Всех их, мертвых граждан в количестве человек сорока, держали в громадном помещении с кафельным полом, незаметно перетекающим в высокие потолки, и все вокруг сильно смахивало на вокзал. Камера то брала лицо одного из чего-то ждущих там людей крупным планом, то скользила по полу, а иногда изображение делилось на прямоугольные фрагменты. Здесь были женщины и мужчины, старики, подростки, и казалось, что вот-вот пройдет мимо толстозадая торговка конфетами «Секрет универсума». Однако никаких торговок не появлялось, а даже если бы они и появились, то смысла бы в этом не было. Иван Никифорович, как значилось на пластиковой бирке, прикрепленной к лацкану его пиджака, судя по всему, вообще не представлял себе, нужно ли ему будет теперь питаться, тем более что он никак не мог понять, постоянно ощупывая себя руками, есть ли у него тело, и, если есть, нужно ли ему чего-нибудь. Изредка над спелыми головами присутствующих пролетал дежурный ангел, выискивая в толпе лишенными выражения глазами, того, чья очередь наступила. Наконец, позвали и его:
- Иван Никифорович, через пятое КПП.
Он с трудом протиснулся сквозь людскую массу, от долгого ожидания утратившую способность реагировать на внешние раздражители, нашел ворота с нарисованной масляной краской под трафарет цифрой «5» и, с опаской, достойной богов, открыл их. Впереди он увидел коридор с отполированной ладонями вертушкой и двух ангелов, одного с коричневыми, а другого с зелеными крыльями. Стены украшал металлический барельеф, где коренастый мужчина, замахиваясь молотом, прогонял из-за праздничного стола другого, показанного со спины.
- Проходите. – Сказал зеленокрылый. Иван Никифорович уже было взялся за вертушку, но тут второй внезапно схватил его за сустав на плече.
- Стой, тут, по-моему, опечатка в журнале. – Он открыл затрепанный бурями журнал в клеенчатой обложке и стал внимательно изучать записи. – Ага, точно, уважаемый, вам в ад.
- Как. – Побледнев, выдавил из себя Иван Никифорович.
- Как? Вот так. – Ответил ангел и сделал неуловимое движение рукой.
Гудело маленькое, злое сердце карлика-уродца, показывая полшестого, в луче пробивавшегося сквозь занавеску света летала пыль, и это утро обещало быть таким же, как и все предыдущие.
- Почему же я не в аду? – Обнаружив себя лежащим на кровати, с удивлением воскликнул Иван Никифорович.
На этом фильм нам наскучил чуть ли не до блевоты – уж слишком банален замысел режиссера; мы поднялись и вышли из квартиры, чтобы еще прогуляться по этим унылым улицам.
А вот мы попали в кафе. Я заказал два пива и орешки. Люди вокруг ведут свои загадочные разговоры, и мне пришла в голову мысль, что некоторых из них мне никогда их не понять. Но как мне понять то, что с Машей мы вот уже как два года расстались, и у нее муж, а мы сидим в кафе и орешки почти доедены, и я обещал принести ей ребенка… так трудно удержать, сохранить равновесье, льдами подернуто, мелом замазано, и ржавые петли моих мыслей скрипят в сигаретном удушье. Но болью отмеченный гимн бесконечности, официант заменит пепельницу, все остались такими же, как были, просто лето прошло. Ловлю тебя кожей, ловлю тебя взглядами, не понимаю, нерв под машинами, наша любовь smsсообщением, псиджаз. Официантки, сверкая глазами, точными, уверенными движениями поставили со звоном на шахматную плитку кафеля коренастый треножник, на котором слабо тлеют угли. У одной из них, той, что помоложе, недавно проколота мочка уха, тонкая, розовая, сочная мякоть. На угли они сыплют траву, отгоняя демона, из-за которого официантки спотыкаются и бьют бокалы. Ее резкий запах летит через все кафе, просачиваясь на улицу через полуоткрытые двери. Затем, исполняя священный танец обслуживающего персонала, в дыму травы, передают друг другу вареное оленье сердце, посыпанное молотым перцем. До конца почувствовать смысл экзистенциалистского отчаяния можно только в кафе в четыре часа ночи, когда мозги сверлит отвратительная музыка, в тело впитывается, обволакивая, сигаретный дым, а на столе мокрые круги. Скачи мой конь через степи и урановые рудники.
А на следующий день, с утра, я сварил кофе и открыл неизвестно откуда взявшуюся в моей квартире газету и прочитал статью о загадочных визитах инопланетян в города и села неизвестно с какими целями. Одно было ясно – они хотят вступить с нами в контакт. Заплетая в косы космические пространства, шагает по планетам нашей галактики уверенная человеческая мысль. Скованная когда-то узостью мышления и религиозным фанатизмом, превратилась она теперь в цветущий гриб гигантского семяизвержения, заполнившего все извилины коры головного мозга. В наступающей эре научно-технического прогресса не будет ничего такого в том, что на Сатурне разводят коров и с помощью их нежных гортаней общаются с представителями внеземных цивилизаций, относясь к ним, как к переполненным мудростью антропоморфным уродцам, жаждущим контакта с нами. Особенно они жаждут контакта с Людмилой Яковлевной, представителем жилищно-коммунального хозяйства города Изюма-на-Дону. Ее подкожный жир давно привлекал их внимание как огромный потенциал для овладения седьмым измерением, там, где ни растений, ни животных, ни материальных предметов, ни эфирно-астральных субстанций нет. Там вообще ни хуя нет.
В гороскопе под моим знаком зодиака было написано:
«Сегодняшний день исключительно благоприятен для новых знакомств и деловых встреч. Собеседники будут внимательно прислушиваться к вашим словам. Не рекомендуется есть соленую пищу».
- Здравствуйте, - сказал я, подойдя к зеркалу, - рад с вами познакомиться.
- Мне тоже очень приятно. – Ответило отражение.
Одеяло на не застеленной кровати, словно горы, через которые пробирается до смерти уставший мультяшный ковбой, смотрит на меня и вдруг стреляет – пиф-паф, ты убит, дружок. Решив закончить на этом деловые встречи, я встал со стула и вышел из дома. И эта чертова птица – ну почему ей не спиться в такую рань. За окном разгорался апрельский рассвет, и древо с голыми ветвями казалось чудесным, синим-синим цветком, а эти черные ветви – прожилки на лепестках… Я понял, в чем моя проблема, я понял, я был просто анализирующим куском дерева, бесчувственнопромерзшим, но теперь мне хотелось чувствовать, ощущать, проснуться от летаргии. Апрельский мороз – живым не остаться, и нечего пить и некому сдаться, я прыгал в снегу без носков и без жизни, почти поседел, проклиная уставы, друзья все заснули, знакомых не стало, настала пора. И в доме моем я лежал как в могиле, весь мир уместился в три на четыре, а что-то гнило, где-то тут отмирало, я бился всю ночь об угол дивана, но странное дело, голова не болела и чай закипел. ….Когда же пришел он в главный монастырь провинции Хэнань, то оказалось, что среди монахов распространены невежество и чванство. Тогда он достал из своей сумки бутылку, открыл ее посохом и принялся жадно пить, а затем отправился дальше. Идя по бамбуковой роще, посвященной Байцзэ, он повстречался со святым, умеющим превращать свое тело в серебро. Тогда поэт остался у него на полгода в учениках, но, достигнув лишь степени Алеющего Цветка, ушел к правому берегу Янцзы постигать в одиночестве свою дхарму. Там начались его загадочные путешествия в страну перевернутых триграммов. Соединившись в поле, где росла духовная потенция того мира – картошка, с духом Наташкой, и, не дав пролиться своему семени девять раз, поэт с очистившимися ушами, глазами и разумом, сел за написание трактата. Этот трактат любезно подарил мне один из переписчиков. То было руководство императору в военном деле и мудром управлении Поднебесной, в нем говориться, что мудрый правитель сначала должен лишить своего соперника жизненности, охулив его имя на множестве бамбуковых дощечек, раскиданных в нужную минуту по столице. Далее, требуется убедить подданных в том, что врагу помогают чужеземные варвары, тогда будет долгим правление, и совершенным оно будет считаться у потомков. Правда ли это, вы можете узнать, раскалив черепаший панцирь в день восьмой Луны, написав на нем алхимический знак «бюллетень».
Синтезируя надетую на мне одежду и приподнятое состояние духа, я рассекаю грудью уличное движение. Ползут, тащатся асфальты по лицам прохожих, ну чем не смеситель? Согласно сложившейся еще несколько тысячелетий назад урбанистической мифологии (считаю не лишним напомнить, что ее носителями считаются не жители городов, как многие ошибочно полагают, а сами города как надличностные ментальные феномены) смеситель – самая высокая категория развития духовного потенциала города, когда населяющие его люди, животные и здания как бы перемешиваются друг с другом. При этом духовные характеристики этих объектов целиком определяются городом. Улица в грязи, дождь из грязи, обувь моя из грязи, лишь белые полосы когда-то раскатанной по дороге зебры напоминают, что моя дорога не там, где ходят тысячи… погадай ты мне цыганка по линиям на подошве ботинок. Забывай про ветер, шумящий у тебя в голове, прислушайся к вою собак. Если пройдешь оврагами до станицы, увидишь, как палят ведьм. Заплетай меня в косы, забери домой, видишь – я совсем издох. По куртке цвета вороньего крыла мокрая россыпь, я дохожу до перекрестка и начинаю забираться на дерево, тревожа уютно уснувших под корой насекомых.
Есь.
Когда лезешь на дерево, главное – крепко цепляться за ветки. Это не означает, что нужно впиваться в них когтями до одури, нет, все должно происходить э-э-э… хлестко. И так я полез на дерево, скрылся от взглядов, и все полз, как муравей в джинсах… Но вот уже появляются первые листочки, нет, это не я так долго лезу, это постепенно пространство меняется вокруг, подозреваю – благодаря мне. В принципе, все это огромное растение является символом, но ведь надо по чему-то лезть, не правда ли? Я уселся на ветку потолще, чтобы передохнуть и почесать не вовремя зачесавшуюся голову. Здесь меня неожиданно посетила мысль о том, что, скорее всего, выражение «почесать репу», где репа означает голову, являет собою лингвистический рудимент, унаследованный от эпохи праславянского единства. Кажущаяся нелепость сравнения головы с корнеплодом исчезает, если вспомнить, что репа – овощ сладкий, а по свидетельствам полинезийских аборигенов и маньяков Новосибирска, мозги – самая питательная и сладкая часть человеческого тела. Судя по всему, для наших языческих предков это выражение было проявлением фатализма, неизбежности перед лицом судьбы, давно уготовившей твою голову в качестве чьего-то завтрака.
Определенно, бог создал человека спьяну, иначе, чем можно объяснить те удивительно тошнотворные переживания, что время от времени беспричинно охватывают всего тебя. Классно знать, что дух твой вечен и неуничтожим ни огнем, ни грязной водой, не словом Левиафана, не болотным чавканьем завистников, ни глупостью гранитного гриба, ни ветром семи утех, ни транзисторными подачами и подключениями, и все течет, течет на запад, в страну медленных снов. И куда бы я ни пошел, всюду честные глаза ее светятся, светятся, так, что скорее начнется пожар, чем твои веки хоть на миг закроются, и вперед рванул степной ковыль вслед за срубленной головой, но КАК МНЕ ЭТО ПЕРЕДАТЬ?
И вот я лезу дальше, пока не натыкаюсь на стаю мелких синехвостых птичек размером с воробья, чего-то себе чирикающих на цыганском. Теперь надо одну из них поймать, и вот тут понимаешь, что пить надо меньше, потому что и реакция замедленна, и руки дрожат, да и вообще, думаешь, как бы не свалиться. Эти маленькие, размером с созревший плод манго птички – души прошедших круг, они должны снова оказаться в женском животе, вся беда в том, что никто из них не выбирает машин живот, именно это я и собираюсь исправить. И когда я, наконец, хватаю одну за хвост, то вижу, что забавно почувствовать себя американским солдатом, который идет сквозь косые линии крупнокапельного дождя, опасаясь в любой момент получить пулю вьетконговцев. И каждый шорох – повод тревожно замереть, тем более что сам парнишка из Детройта, и в лесу был всего однажды в 11 лет, поэтому он сам создает больше шума, и сам же его пугается,… а ведь нужно еще обходить упавшие деревья с зеленоватой корой и осторожно ходить вдоль склона оврага, если упадешь – синяком не отделаешься. Эх, видела бы Кэтти, что за чертово это место! И одной рукой в перчатке с обрезанными пальцами ты держишь блестящую рукоять пистолета, а второй – поддерживаешь его снизу, чтобы уменьшить отдачу и стрелять точнее. Но фишка, как вы сами понимаете, заключена в том, что тебе неизбежно придется встретиться с врагами, и убивать молодых вьетнамцев, стреляя в них несколько раз подряд, до тех пор, пока они не упадут на эту дрянь, что растет на земле в лесу, и посмотрят, застонав, стекленеющим взглядом на твое покрытое черными маскировочными полосами лицо, нижняя половина которого, до скул, закрашена светло-зеленым. Такой себе лесной эльф американской мифологии. Вчера ночью мне пришлось ночевать на ветке дерева. С одной стороны, это вроде бы безопасней, чем на земле, тем более что земля после дождей холодная и сырая. С другой стороны не высыпаешься не фига, дерево тоже мокрое, скользкое, больше думаешь не о том, как заснуть, а о том, как не свалиться. Мне приснился трогательный и странный сон. Группа молодых людей, сидя на лестничных ступеньках, пила что-то из горлышка, а один, длинноволосый, пел песню на каком-то, неизвестном мне языке, может быть, на болгарском, но самым странным было то, что я понимал все, до единого слова. Смысл был в том, что над Вьетнамом сбили американский вертолет, а летчика захватили в плен и допрашивают. Пилот, кажется, был из Техаса. Проснувшись, я даже курить не стал.
А дождь шуршит.… Какой-то из известных поэтов признался однажды, что любит, забравшись на чердак, слушать, как стучат капли по крыше. Смог бы он сочинить хоть строчку, если бы его крыша потихоньку съезжала от этой постоянной пелены – как будто здесь вечно идет дождь, такой себе дождевой круг ада. Приходится перешагивать через поваленные бревна, хотя иногда стволы такие огромные, что приходится обходить. И хочется увидеть хотя бы одно знакомое дерево, а те пальмы, что так манили под свою сень на рекламных плакатах, сейчас вызывают только тихое омерзение. И совсем не понятно сколько времени, глядя на небо, можно с одинаковым успехом определить, что сейчас или шесть утра или шесть дня. Ну, вот и началось – только что до меня дошел тревожный, не воспроизводимый нормальной человеческой глоткой голос, это переводится приблизительно, как «кто идет», по крайней мере, так я его понимаю, поскольку вьетконговцы произносят его, когда замечают что-то подозрительное. То есть, меня.
Так и есть, обычный патруль из двух солдат, один уже целит в меня, а другой спешит в обход по склону холма. В джунглях почти не бывает ровной местности, только низины и холмы вдоль, вперемешку с огромными каменными валунами. Я несколько раз подряд нажимаю на курок, выпускаю всю обойму, солдат внизу падает на землю, а пока он падает, я успеваю перезарядить пистолет, и до чего вовремя! Из-за похожего на павлиний хвост куста на меня уже движется второй, которому достается две пули в грудь. Он стонет с такой интонацией, будто в горло ему попала рыбья кость, и на секунду мне становится его жалко. Да он хотел убить меня, и вообще, наш срок давно записан в Книге Судеб, как говорят новоорлеанские евангелисты, но сострадание к живому существу – единственный способ не смешаться со всем этим дерьмом.
До того, как попасть сюда, я был обычным американским подростком, учился в школе, играл в бейсбол, потом поступил в Чикагский университет, и учился там до четвертого курса на спортивной стипендии – в бейсбол я играть не перестал. Когда началась война я пошел на пункт регистрации новобранцев ни о чем не жалея, мать была против, а отец помню, долго смотрел мне в глаза, дыша кэмэлом без фильтра, он всегда курил кэмэл без фильтра, и, наконец, произнес:
- Иди, покажи этим узкоглазым.
Когда я уже выходил из дому, неся на плече сумку с вещами, он стоял на пороге и курил, а потом неожиданно сказал:
- Возвращайся живым, Стив.
Солдаты были примерно того же возраста, что и я. Были. Или они и мертвыми остаются солдатами? На бляхе ремня у них тусклая красная звезда, жалкое подобие советских рубиновых пентаграмм, и раскинутые в стороны конечности – лучи восходящей над Вьетнамом звезды. Я забираю у одного Калашников, и вешаю его на спину, а у второго вынимаю обойму. Теперь у меня в рюкзаке небесно-голубой нож, затем, что-то напоминающее мачете, предназначенное, чтобы прорубаться сквозь заросли. Кстати, не такие уж здесь и заросли. Еще медпакет с большим красным крестом и пара дымовых гранат. Если бы этих гребаных хиппи хоть на денек привести сюда, то они наложили бы в свои расшитые ромашками джинсы. Я думаю, это позор, что так много американцев не хочет воевать за свою страну. Медленно рассасываются пепельные облака, проплывая вдоль оврага, я двигаюсь короткими перебежками, время, от времени останавливаясь и глядя по сторонам. Наш вертолет срезали из пулеметного гнезда, я выпрыгнул, когда он уже падал, несясь над верхушками деревьев, а, очнувшись, понятное дело, «ау» кричать не стал. И я здесь уже месяц, и ничего, кроме джунглей не видел, даже неясно, за что они воюют, только растения и зенитные установки, да еще иногда деревянные вышки, откуда так приятно снимать из снайперской винтовки часового. Животных, кстати, тут вообще нет, давно уже перестреляли, так что «Дискавери» здесь делать нечего. Чу! Кто-то подорвался на растяжке. Растяжки по джунглям ставят только вьетконговцы, они же на них чаще всего и натыкаются, так что побеждаем мы, скорее всего не по причине мощи американского оружия, а из-за маленького объема мозга монголоидной расы.
Узкоглазый попал мне четко в руку, и забинтованная, она болит еще сильнее. Я наткнулся на него случайно, он вынырнул из-за кустов, прикрывавших его нехитрую палатку – просто сколоченные друг с другом стенкой тонкие стволы, а получившийся навес оперт на две палки под углом градусов в семьдесят, этого навеса как раз хватает, чтобы сидя на земле и не двигаясь, не промокать. Но я его таки застрелил, а потом и его напарника, прибежавшего на выстрелы, срал, наверное, неподалеку, бедняга. Пистолет пришлось выкинуть, в нем оставалось всего два патрона, зато я взял винтовку и мать его, у них тут череп! На небольшом зеленом ящике стоял, опершись на нижнюю челюсть, выбеленный ливнями человеческий череп. Дикий народ, что и говорить, мне говорил лейтенант Диксон, до сих пор духам поклоняются, а еще своим «дедам», то есть предкам. Лейтенант Диксон вообще очень умный.
Бедный, бедный вьетнамский народ, желтолицые сыны тропической холеры дышат прогорклой «Мивиной» на стволы русских автоматов, и их телевизоры, калькуляторы, плееры и магнитофоны, что наводнили страны третьего мира, несут на себе отпечаток культурной немочи нации, заимствовавшей все достижения у Индии и Китая. Когда вернусь домой, то куплю пистолет и потихоньку поубиваю всех, кто причинял мне неприятности. Вертолет я нашел почти сразу, догорающими остатками неуклюжего животного он освещал долину, поросшую буйной, нахохлившейся травой, а рядом валялись скрюченные тела пилотов, указывая собой замысловатый путь, ведущий к зарытым пиратами сокровищам. Но мать его, откуда стреляют! Я кручусь волчком из стороны в сторону, но только джунгли мелькают в глазах, и жжет рана на ноге. Я упал на траву, слыша, как ко мне бегут солдаты. И тут внезапно все закончилось, и я вдруг увидел себя сверху, меня кружило вокруг бессмысленного трупа, а рядом стояли вьетнамцы и оживленно переговаривались. Я взмыл над верхушками деревьев, но, к своему удивлению, увидел невдалеке вместо сплошного ковра леса туманное поле. Это была русская нирвана, я прочитал о ней в той книжке по политподготовке, которую нам выдавали перед вылетом. Там было написано, что душа американца попадает в небесный супермаркет, совмещенный с сексшопом и кинотеатром, а душа русских попадает в бесконечное поле, русскую нирвану. Наверное, Бог просто перепутал.
Вот это да, Маше достанется ветеран вьетнамской войны! Но, я ей, конечно, не скажу. Нужно спускаться вниз. Там остались возможности честного заработка на самой престижной соковыжималке образца 545 г. до н. э., когда чертов кролик объявил о капитуляции перед железноносой необходимостью. Война ведется не за ваши души, а за право посещать кафедральные притоны, следуя заранее установленным образцам. «Пожалуйста, не отнимайте у нас образцы, они нам как червь по композиторообразной коже!» - яростно шепчут они, хватаясь за черешок лопаты из приграничного участка рядом с Пенджабом. Самые храбрые пойдут в армии не умеющих отмазаться, найти лазейку во мху и не попасть под самые корни, тут дело принципа такое же, как соль на глазах. Ты хочешь денег сынок, когда выйдешь отсюда? Да, товарищ старшина, хочу быть переводчиком дорогих марок на внутреннюю сторону щеки. Хорошо, первая молекулярная гвардия, через час вам будет виден Голливуд, теперь он за вас в ответе.
Синкэн.
Я проснулся отличным летним утром, где-то развевался флаг, но мне не было дело ни до каких флагов. По улицам ходят девушки, и у каждой в глазах цветы, я встал на скейтборд и поехал к горизонту. И в конце моего пути, там, где земля сходится с небом, меня будут ждать друзья.
Мне понадобилось зайти в магазин, есть хотелось так, что казалось – в желудке скребутся кроты. Это был обычный магазин, не супермаркет, если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Там в центре стоял атлантов столб, увешанный засиженными мухами зеркалами. Это было так прекрасно – зеркала этим утром. Ну конечно если вы понимаете, что я имею в виду. Итак, есть продавщица, сыр, печенье, и я купил какой-то… и вышел на улицу. Старые, с отколовшейся штукатуркой дома отбрасывают тень, накрывающую меня с головой. По асфальту ползут молодые трещины, цепляя за ноги зазевавшихся прохожих. Бесконечная вереница лиц тянется потоком в магазины, рефлекс подает сигнал, загорается лампочка желтым. И огромная толпа бродячих собак ищут своего куска, который исчез до того, как появился, собаки нужны для того, чтобы их пинали дети, что рождены от мамаш, курящих в коляску спирохетными излучениями. О, великая китайская экзотика стилей одежды, ты расползлась по всем углам страны, города и села повержены ниц перед силуэтом-прототипом, поколение мобильных телефонов говорит: «Эй, привет, мистер Снупи! Как вам понравятся наши гениталии?» Это все минувшие мотивы опереточного суррогата, дурацкая оперетта с фальшивыми песнями и словами, что достали со дна Грандканьона, где, свернувшись под камнями, гниет и разлагается том классической литературы в его самом маргариновом варианте. Поколение мобильных телефонов развлекается по схемам, о, детка, ты желаешь ветра, дующего в дождливую погоду над Житомиром? Ручаюсь, что твои удовольствия помещаются в картонную коробку, что несет почтальон к одной из тех квартир, где делят награбленное. Голосуйте за вашу сводную собаку, и в понедельник вы увидите по кабельному, как распинали на Голгофе ГАЗ-21. это ваш выбор, граждане, свободные от лиц, это ваши лица, граждане, требующие выбора, какая кормушка окажется ближе к их пылесосной пасти. И в парках ходят люди, бьющие друг друга молотками по животу, чтобы выиграть главный приз – поездку к Фрейду на седьмой этаж, где раньше жила тетя Галя, передавайте ей привет, давно не видел, соскучился черничным вареньем, намажьте тетю Галю, дайте ей свободную волю выбирать. Это просто победа одного из двух боксеров в конкурсе англо-бурского автоответчика, и победитель плачет за булочной в три часа ночи на самой крайней точке линии метро.
Терпкими вечерами, что мелькали в краешках твоих глаз, было очаровано старинное предместье. Именно там, под яркими мотыльками, кружащимися около электрической планеты, мы впервые увидели друг друга. Можно долго говорить о судьбе, предначертании, роке, но я уверен – была лишь кристальная случайность, в отражении которой и происходили эти дивные вещи. Только что прошел дождь, и немного холодно, а твоя кожа – она ведь так чувствительна, что к ней нельзя прикоснуться без того, чтобы не ранить. Наверное, мы и стали знакомы – тонкокожие в мире, где царят гиппопотамы. У тебя может быть уверенность в том, что я являюсь очередной фантазией твоего взбалмошного воображения, но я вполне реален, видишь, я могу даже есть попкорн. Каменные ступеньки сохраняют для нас великую тайну путешествий, и мы пускаемся в них, бредем по аллеям, держась за руки, как будто боимся потерять ту связь, что радиоволнами пробегает от мозга к мозгу. У тебя ведь, наверное, прекрасный мозг, совсем не похожий на те репродукции из учебников, что-то наподобие алого цветка с огромным количеством лепестков, бешено танцующего в темноте.
Черные розы падают на асфальт
Сегодня дождь.
Сегодня идет дождь.
У тебя промокла футболка,
У меня промок тот маленький, светящийся шарик
Который я храню в темных углах.
Танцуй,
Танцуй,
Могут ли машины любить друг друга?
И вот мы проходим сквозь ветви, остаемся невидимы для остальных и исчезаем в этой мучительной ноте, что пронизывает вселенную со дней ее сотворения. Откуда в этом прекрасном небе столько звезд? Я думаю, они все выскочили ненадолго из своих теплых нор, взглянуть на нас, мол, что эта пара делает этим вечером? Смотрит кино про себя? Ищет ответы на те вопросы, что нельзя произнести? Или просто куски мяса в обуви решили, что они и есть звезды?
И мы идем к тебе, все дальше и дальше, где-то на одном из районов твоя квартира, сейчас мы будем в ней, нам лишь на метро успеть. Там в метро завывают бесконечные железные волки, и мне хотелось бы, чтобы твоя голова опустилась на плечо, но ты смеешься, и я вынужден признать, что это ничуть не хуже. Автострады искрятся расплескиваемыми лужами, нас неумолимо несет теплыми течениями в твой подъезд, где, набирая код, ты ломаешь ноготь, но это ничего страшного, забавно даже, что меня это задело больше чем тебя и вот такие знакомые щелчки: клац, пауза, клац – мы дома.
И я подхожу к окну, раздвигаю занавеску, и, опершись на подоконник, любуюсь тьмой. Только сейчас я понял – что-то не так. Почему она не включает свет? Почему в комнату заходят эти люди, и, не здороваясь, становятся у противоположной стены, молча, без единого звука, но по мне ползут их взгляды. Ты тоже заходишь и становишься рядом. Рядом с Машей, Александром Михайловичем, Олей, Алистером Честерфилдом, Стасом, и еще люди, не вижу их лиц, я не вижу их лиц, это розыгрыш, это не розыгрыш, что происходит но ведь ночь так прекрасна. Они молча двинулись ко мне, доставая ножи.
* * *
Перед нами медленно течет грязная вода в свои далекие горизонты, вечер раскрыл теплые объятия, и вот мы попались в них и бьемся, словно крупные птицы.
Содержание.
1. Энгдекит………………………………………………………………………2
2. Дотет…………………………………………………………………………..5
3. Хэглэн…………………………………………………………………………8
4. Харги…………………………………………………………………………10
5. Сэвэки……………………………………………………………………….13
6. Сэвэн…………………………………………………………………………16
7. Дох…………………………………………………………………………..19
8. Альбэ…………………………………………………………………………22
9. Каскет………………………………………………………………………..25
10. Хосэдэм…………………………………………………………………….28
11. Есь…………………………………………………………………………..33
12. Синкэн..……………………………………………………………………..37
|