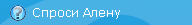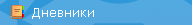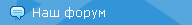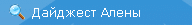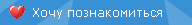Красные горы.
Старый желтый автобус, прогретый жарким июньским солнцем, замедлил ход и плавно остановился. Водитель заглушил двигатель. Мы вышли через переднюю дверь, вдохнув полной грудью сладкие ароматы свежего воздуха.
Скалистые невысокие горы, поросшие чахлым кустарником, желтовато-зеленым степным разнотравьем, мхом и заячьей капустой, встретили нас многоголосым стрекотом кузнечиков и шорохом травинок от, казалось никогда не прекращающегося, степного ветра.
Странными, наверное, виделись чужакам эти горы, называемые местными жителями красными, действительно, имевшие красноватый оттенок, если смотреть на них с очень большого расстояния. Странные, возникающие как бы ниоткуда посреди слегка холмистой Казахской степи, монотонной и тяжеловесно спокойной. Исчезали они так же в никуда, словно миражи.
Магистральное шоссе, петлей обходящее ближайший город с Северо-Западной стороны на Восток, проложило себе дорогу через одно из широких плоскогорий, между скалами; и посреди однообразного безлесого пейзажа предлагало хоть немного порадоваться глазу водителей и пассажиров, проезжающих автомобилей, видами разнообразного горного рельефа.
Многочисленные дачные участки горожан усеяли подножье Красных гор летними домиками, частоколами разнокалиберных заборов и зеленью деревьев, столь ценной за редкостью в пыльном Центральном Казахстане.
Телевизионная антенна, расположенная на самой высокой горе, видимая издалека, служила маяком автомобилистам, предвозвещая о скором приближении города. По ночам она окутывалась таинственными красными огнями и становилась волшебно манящей, похожей на остатки застрявшего здесь навечно корабля инопланетной цивилизации. Работающие по обслуживанию этого телевизионного усилителя специалисты, казались суровыми бородатыми физиками, аскетично проводящими свою ученую жизнь вдали от урбанизма, презирая его, как недостойное для человеков место и время пребывания.
Люди в автомобилях, следующие по объездной дороге и не предполагали, что с любой ближайшей горы можно увидеть маленькое чудо: с юго-восточной стороны горной цепи скрывалось большое озеро, а расположенный рядом современный индустриальный город амфитеатром многоэтажек сползал к его южному берегу с окрестных сопок.
В действительности озеро было огромным водохранилищем, созданным для нужд людей. Узкая степная речушка, заполнившая водохранилище, тонкой чахоточной артерией впадала в него с Восточной плоской стороны, богатой светлым речным песком, и бурно-красиво выскакивала через порог плотины мимо скалистых утесов на запад.
Южная сторона озера безраздельно принадлежала городу, а вот Северная, образовывавшая в овале озера гористый полуостров с множеством удобных каменистых бухт и ущелий, поросших деревьями, была территорией зон отдыха и пионерских лагерей. Точнее сказать, некогда пионерских, а ныне детских оздоровительных лагерей. Кое-где немногочисленные увитые зеленью дачи дополняли пейзаж.
Вчера ты захотела провести выходной на природе и предложила добраться из города на дачном автобусе сюда, где мы сейчас находимся - на конечной остановке маршрута “Пионерлагеря”.
Для меня восьмилетнего, приехавшего в этот город 26 лет назад, все то, что я видел сейчас вокруг себя, казалось таким естественным, существующим с давних пор, еще до моего появления на свет, а потому не требующим никаких объяснений, воспринималось, как геометрическая аксиома.
Уходящие вдаль и вверх крутыми уступами изможденные скалы, то там, то сям покрытые надписями вездесущих аборигенов; лощины между уступами скал, поросшие колючими кустарниками; лишаи тонкого зеленоватого мха; сухой ветер с ароматом диких степных трав и огромное синее небо, почти всегда свободное от барашков светлых курчавых облаков.
Я много раз раньше бывал когда-то на этом полуострове. Мальчишкой исходил вдоль и поперек все окрестные горы, ловил греющихся на склонах ящериц, обрывая им хвосты, собирал ковыль, переплывал с друзьями на резиновой лодке озеро, чтобы разбив палатку, заночевать на берегу удобной бухты, наслаждаясь чаем с костра. Знал и любил этот участок земли, был его исследователем, всегда чувствуя себя первопроходцем.
- Куда пойдем? - спросил я.
Мы стояли на круглом пятачке асфальта, зажатом с одной стороны скалами, а с двух других центральными воротами соседствующих лагерей.
- Узнай расписание, чтобы не пришлось назад пешком возвращаться, - попросила ты.
Надев солнцезащитные очки, без которых глаза просто отказывались открываться, надвинув козырек кепки глубже на лоб, я узнал у водителя расписание, такое немудреное - один рейс в час, до девяти вечера.
- Давай прогуляемся через лагерь и затем выйдем к озеру, позагораем, а часа через четыре вернемся - предложила ты.
Лагеря были пусты, хотя раньше в середине июня жизнь здесь бурлила и звенела детскими веселыми голосами. Кризис последнего десятилетия, смена владельцев собственности и падение уровня жизни сказались на всем.
Раньше один из лагерей - “Чайка”- принадлежал строительному тресту, в котором трудились мои родители и мы с моей младшей сестрой каждый год, хотя бы один сезон отдыхали в “Чайке”, как тогда говорили лучшем из всех лагерей, города. Обычно в июне, потому что в плодоносный июль нас отправляли к бабушке с дедушкой, родителям отца, в деревню, а в августе начиналась предшкольная лихорадка.
- Ты же знаешь, нельзя.
Мне хотелось зайти на территорию лагеря. Вдруг я осознал, что не был здесь целую жизнь, точнее в какой-то другой жизни, бесконечно далекой, я - ребенок отдыхал здесь, впитывал в себя чужую взрослость, заражался чужими привычками, а затем избавлялся от них, превращаясь в мечтателя.
Захотелось взглянуть на все то, что огромным слоем отложилось в бездонном шкафу моей памяти когда-то на огромной-огромной полке под названием“Детство”, утряслось, давно легло на свое место и даже покрылось пылью.
В то же самое время, усвоенное с детства негативное отношение к нарушению порядка, не позволяло мне вступить на чужую территорию.
Мне, как и раньше, продолжало казаться, что если я не буду нарушать чужие права, то никто не нарушит и мои...
- Пойдем, не бойся, нас не увидят. Мы просто прогуляемся и уйдем - настаивала ты.
Я и не сомневаюсь, милая, что все именно так и получится. Только вот объяснять тебе всю запутанную сложность собственных “вето” и “добро” так сложно, а может быть, даже и невозможно. Захочешь ли слушать? Может, и захочешь, но когда? Тогда, когда эта мысль потеряется среди миллионов других? А я уже и не вспомню, что хотел сказать тебе когда-то. И с чего это ты решила, что я боюсь? Вовсе нет, просто мое “вето” уже нарисовало мне картинку, как выйдет нам навстречу старичок-сторож и будет совестить, упрекать и объяснять нам, что не дело, мол, законы нарушать, шастают тут всякие, а потом добро пропадает.
Поэтому ответил: ”Пошли ... через “Чайку”.
Много раз в кино и по телевидению я видел скачущие, все сметающие на своем пути, стада газелей, оленей, табуны лошадей. Теснятся, торопятся - кто быстрее, трутся друг об друга потными боками, не дают себе свободы. Схватишь взглядом одного, и вот уже потерял его из вида среди собратьев, вот следующий - та же история... Так же мои воспоминания об этом лагере, точнее обо мне в этом лагере, о моей жизни сбились в кучу и понеслись, понеслись. Получится ли выхватить хоть что-то?
Металлическая дверь ворот оказалась незапертая. Не сказал бы, что несмазанные петли заскрипели дружелюбно. Я поднял с земли сухую тополиную ветку, отломал ненужное - получилась палка. Не для защиты или тем более нападения, а так, ковырнуть корягу, посмотреть, кто спрятался под камнем, дотронуться до дерева, да мало ли зачем такая необходимая вещь нужна? Я и сам не знаю.
Тогда у нас еще не было сына, а теперь он есть и я понимаю, что когда мой маленький сын, выходя играть на улицу, частенько первым делом ищет себе подходящую палку (или просит меня сделать ему таковую), когда он ковыряет ею в листве, переворачивает камешки или просто ведет ею по земле он и сам не задумывается, зачем ему это нужно. Просто нужно без объяснений.
Но тогда у нас еще не было сына и мы, взявшись за руки, медленно пошли вниз по аллее к центральной площади.
Аллея начиналась с двух, почти античных, сооружений: маленькой деревянной будки слева и просторной также деревянной беседки с правой стороны. Десятки слоев краски, местами ссохшейся и отлетевшей, как старенький латаный кафтан покрывали дерево.
Вдоль всей аллеи густо росли тополя, деревья моего детства. Сколько же им лет? Последний раз я отдыхал здесь 20 лет назад, и они были такими же большими, как сейчас. Или больше?
Порыв теплого ветра прошелся по верхам деревьев, зашелестели листья и замолкли. Душно. Никаких звуков, кроме стрекота кузнечиков. Птицы прятались от полуденной жары и не пели.
Давным-давно, заасфальтированная дорожка во многих местах вздулась от массивных корневищ, прокладывающих себе путь к жизни без чьего-либо согласия и разрешения. Асфальт крошился, гибнул от вечного движения. На земле, за спинами могучих тополей, проглядывались сухие артерии полуобвалившихся арыков, без которых здесь сохнет все и вся. Воды в них уже не было, стенки арыков обрастали вьюном, глина обсыпалась.
Любое место в лагере могло напомнить мне о многом.
Воскресенье. Наш отряд- дежурный. Можно сказать, невыносимая ответственность. О, счастье! Я назначен дежурным на Центральные ворота. Центральные ворота - звучит гордо! Значит целый день я в белой рубашке, черных школьных брюках, в отглаженном с вечера пионерском галстуке и в красной пилотке буду сидеть в прекрасной деревянной будке полтора на полтора метра, держать руку на телефоне и изучать списки детей в отрядах. На меня возложена обязанность: не пропускать приезжающих родителей дальше беседки, сообщать им в каком отряде их чадо, звонить в штаб, чтобы дежурные связисты по громкой связи вызывали счастливчиков к родителям.
- Внимание. Лингерт Саша из четвертого отряда, подойди к центральным воротам, тебя ожидают. Повторяю....
И вот уже чадо бежит, запыхавшись, по бесконечно долгой аллее. Родители улыбаются, обнимают детей, торопятся достать самое вкусненькое. Радость, смех, расспросы.
Да и сам, где бы я ни был в лагере в воскресенье, чтобы ни делал - всегда слушал все объявления по громкой связи, зная, что мои родители приедут обязательно. Горячий коричневый “Урал” с коляской будет стоять у ворот, и отец обязательно поучит меня водить мотоцикл, а мать станет расспрашивать о питании, бане, отношениях со сверстниками. Непременно окрошка - июнь.
Как мы с сестрой любили эту июньскую окрошку на домашнем квасе. Свежие овощи, аккуратно порезанные мелкими дольками, так здорово хрустели во рту. Окрошка - почти ритуальное блюдо, без которого приезд родителей был немыслим. Часто родители с разрешения воспитателя отряда сажали нас в коляску мотоцикла и везли совсем недалеко от лагеря, к пляжу на озеро, где можно было вдоволь накупаться, наесться вкусностей и почувствовать себя настоящим пионерлагерным отпускником. Отягощенные конфетами и печеньем мы возвращались в отряд, чтобы жить еще неделю в ожидании родителей.
Через несколько метров скамейка.
Сколько разговоров выслушала она за свою долгую жизнь, сколько чужих радостей и переживаний пропитало ее древесину. Были среди них и мои разговоры с родителями. Узнает ли она меня, как узнал ее я? Думаю, да, но из деликатности не подаст вида.
Что ребенок черпает из жизни? Все, что видит и слышит. Ведь как ни старайся, но дети видят в жизни и теплое и холодное, хорошее и плохое, спокойное и нервное, прекрасное и отвратительное, курьезы и недочеты; все цвета жизни. Обязательно найдется среди окружающих кто-то, кто будет корректировать курс ребячьего движения по жизни. Но куда и как? Кто и что бережет ребенка от зла или наоборот толкает его к разочарованиям? Хотелось, чтобы этот кто-то любил тебя, и чувствовал иногда, что там, в глубине твоей души происходит сбой.
Как-то раз мальчик из нашего отряда - Костя - позвал меня гулять за пределы лагеря. Какое приключение, уйти без спросу, без разрешения. А если заметят? Отчислят с позором. Рискованно, но от того и по-детски желанно. Да и окрестности казались такими неизведанно-заманчивыми. Полазив немного по скалам, мы отправились в сторону ближайших дач. Будний день, дачников почти нет.
- Давай зайдём в дом? - предложил Костя, когда мы проходили мимо одного из домиков.
- У тебя здесь дача? - наивно спросил я.
В фильмах воров обязательно ловили, везли в милицию, предавали суду. Нас почему-то никто даже и не увидел. Легко и просто, Костя выставил стекло, и мы оказались внутри домика. Он сделал это так быстро и просто, как будто его папа был стекольщик. Но я-то знал, что его отец и мать занимали высокие посты на службе, мои родители изредка в своих беседах употребляли их имена.
Самая необходимая мебель, просто, без излишеств. Старенький диван, отслуживший светлого дерева шкаф, стулья, стол, посуда. Но на столе стоял, оставленный хозяевами, транзисторный приемник недорогой марки.
- Возьмем, - утвердительно, сказал Костя.
Я не противился, меня околдовала такая простота скорого обладания богатствами.
Мы вылезли и быстро пошли прочь от домика. Батарейки оказались в рабочем состоянии, Костя нашел волну, не помню, что звучало, да и какая разница. Послушав приемник, уже в лагере, куда мы тут же вернулись, Костя отдал его мне. Я догадывался, что во дворе своего дома Костя водился с нехорошей компанией. В то же время я знал, что он - мальчик из обеспеченной семьи, и для меня оказалось открытием, что кража не всегда происходит от скудости средств.
Не знаю, почему он сделал это: чтобы показаться передо мной более взрослым или уже не мог жить без ощущения риска. Без особого противного нытья где-то внутри, в момент кражи и последующего ощущения свободы, безнаказанности и вседозволенности.
Сам транзистор ему оказался не нужен, а может он уже тогда знал, что держать у себя ворованное опасно. Я же, став обладателем транзистора, несказанно обрадовался такому сокровищу. Правда, что-то не давало мне покоя, не возникало полноты ощущения радости. Такой радости, которую я испытывал от родительских подарков.
И как часто делают дети, я постарался забыть обо всем. Все дни до воскресенья транзистор простоял в моей тумбочке, даже сестре, бывшей в соседнем отряде, я не рассказал о нем. Старался не думать обо всем произошедшем, предавался обычной лагерной жизни. С Костей мы так и не заговаривали на эту тему, и никуда вместе больше не ходили. Я стал чураться его.
В воскресенье, как обычно приехали родители. Я бегу к ним по аллее с приемником в руках, хотелось поделиться радостью обладания таким богатством. Родители сидели, ожидая, нас на скамейке у центральных ворот, на этой самой скамейке.
- Где ты его взял? - спросил отец.
Все эти дни я даже и не предполагал, что мне зададут такой вопрос. О, детская наивность! Разве вообще в мире могут существовать такие вопросы, по отношению ко мне? Я даже не представлял, что это будет первой, естественной реакцией родителей.
Сердце неожиданно сжалось, стыд и страх разлились по всему телу. И я … соврал, что мне его подарил мальчик из отряда - Костя. До сих пор помню те ощущения: мне казалось, что слова мои нелепы - насквозь видна их фальшь, язык - ватный, а глаза неспокойны. Я спрятал их от родителей, отведя взгляд в сторону, и скорее начал жевать яблоко. Оно-то меня и спасло. Родители вслух между собой обсудили ситуацию и каким-то неведомым мне образом поверили. Может оттого, что доверяли мне, а может потому, что приемник был не нов и относительно недорог, или же от чего-то еще.
Я избавился от ставшей противной мне вещи тем же днем, отдав ее кому-то. Приемник отдал, а память осталась. Шип греха детства покалывает до сих пор, сколько бы лет не прошло.
А Костя, где он теперь? Кто? Как-то видел его спустя лет 12 после окончания школы, узнал. Слава Богу, не опустился, не стал преступником, смог побороть в себе тягу к дурным поступкам. Значит, нашелся некто, откорректировавший его движение по жизни, движение в сторону не зла. За это спасибо.
Мы идем по аллее, взявшись за руки. Какая же она узкая!
Тополя. Немного осталось жить этим могучим тополям. Ведь у них уже глубокая старость. Посаженные одновременно и зачахнут все вместе, и не будет больше этой аллеи, вместо тополей посадят клены или карагач, от тополей слишком много пуха. Но первенство тополей никогда у них не отнять. Они первыми зеленили плоские пространства степей, первыми распускали листья после суровых зим, быстро образовывали рощицы, и давали возможность не спеша подрастать другим, более прихотливым деревьям. Первые везде, и в смерти тоже.
Слева за тополями виден летний кинотеатр.
Помню, как в свой первый приезд в лагерь, я оказался в одном отряде с двумя своими тогдашними одноклассниками.
Саша и Вова. Они были из одного дома и держались вместе. Я же, проучившийся с ними в одном классе самую малость, то прилипал к их компании, то удалялся, ища собственное место в обществе. Интуитивно пытался иметь минимум зависимости от окружавших меня детей.
Вечерами по радио перед прогнозом погоды играла грустно-спокойная мелодия, музыкальная заставка передачи. Эта мелодия навевала на меня воспоминания о таком милом и, казалось, далеком родном доме, трогала во мне самые жалобные струны так, что хотелось плакать. Да и велик ли я был? Девять лет - не старость. Однажды перед сном, когда мы разбирали постели, я поделился своим переживанием с Володей. И что сделал он? Это оказалось для меня неожиданным. Пошептавшись с Сашей, они стали гнусаво что-то напевать, гадко улыбаясь. Если бы не их взгляы, устремленные на меня, я бы никогда не узнал той самой мелодии в их исполнении. Мне показалось невозможным, что они хотели увидеть чужие слезы и посмеяться над этим! Еще одно новое открытие сделал я для себя:: оказывается люди, такие же, как и я, могут причинить кому-то преднамеренную боль и получать удовольствие от этого. Мне стало противно, ни о каких слезах не могло быть и речи. Появилась жалость, что они оба так толстокожи и недоброжелательны. Дуэт, увидев, что ничего не добился, умолк. А я еще долго рассуждал об этом, начиная понимать, что чем старше становлюсь, тем больше мне придется защищаться от беспричинной, необъяснимой несправедливости, исходящей от людей.
Очередную жизненную прививку я получил. Сколько их нужно и в каких дозах, чтобы тяготы жизни переносились бы впоследствии стойко? И кто отмеряет эти дозы?
Но детство тем и хорошо, что прощаешь всех, сразу и навсегда. Через несколько дней мы вместе смотрели в летнем кинотеатре фильм “Джентльмены удачи”. Ужасные динамики, хрипя и клокоча, выплевывали из себя музыку, фразы и диалоги героев фильма. Детская аудитория шумела, визжала, смеялась. Крики заглушали даже то, что хриплые динамики смогли донести до слушателей. С трудом поняв, что фильм о похитителях золотого шлема и о его поисках, все пацаны лагеря на следующий день усвоили, что “редиска”- это нехороший человек, а Доцент, Хмырь и Косой надолго стали любимыми кличками. Много лет спустя я встретил Володю. Он сидел за хулиганство, освободился, пил. Оказалась его дорожка кривой. Надеюсь, после колонии он не потянулся к старым дружкам, но не знаю дальнейшей его судьбы. Всегда хочется думать лучше о людях.
За кинотеатром начинается яблоневый сад, который тянется до самого края лагеря. Знаменитые местные ранетки - маленькие, чуть больше грецкого ореха, ярко-красные, лимонно-жёлтые, рубиново-зелёные яблочки. То ли деревья дичали от недосмотра и яблоки вырождались, то ли ранетки были местными сортами, специально выведенными для суровых Центрально-казахстанских зим. Знаю твердо: без ранеток представить себе пионерский лагерь, его окрестные дачи не могу.
Да и как забыть мне ранетки, когда я, однажды в этом лагере, наелся недозрелых, опрысканных от жуков-вредителей жидкостью, плодов и угодил с пищевым отравлением в медпункт. Как забыть мне тошноту и головокружение, промывание желудка сиреневой, от разбавленной марганцовки, водой. Противно, не хочется пить эту гадость, но медсестра заставляет: надо, надо. Стакан за стаканом и тут же организм исторгает все обратно, и снова, и снова. Дня три пришлось пролежать на больничной койке.
Девочка с соседней кровати как-то раз сказала медсестре: ”Мне антибиотики нельзя, у меня на них аллергия". Два совершенно новых слова в моей жизни - антибиотики и аллергия, но меня поразили не они, а то, как легко произносила их названия малознакомая мне девочка. И вот она жажда знаний, появляющаяся от совершенно незначительных явлений, желание, как минимум, обладать знаниями окружающих тебя людей. В тот же день я узнал, что такое антибиотики и аллергия, спросив об этом медсестру, но то ощущение удивления от двух слов, еще долго заставляло меня поглощать неизвестные слова, совершенствовать систему восприятия всего многообразия окружающего меня мира, через чтение книг. За три дня я прочитал все книги, что имелись в медпункте.
Вот и конец аллеи.
Но почему она такая короткая? Неужели оттого, что я стал больше? Сколько сил мне приходилось тратить, чтобы пробежать ее от начала до конца. Неужели и все остальное, что предстоит мне увидеть, тоже уменьшилось в размерах? Сейчас мы выйдем на Центральную площадь и ...
- Какая маленькая! - вырвалось у меня непроизвольно.
- Не такая уж и маленькая, - ответила ты.
Ты, никогда раньше не бывавшая здесь, конечно же, не можешь знать, что в те времена эта площадь выглядела несравненно шире и длинней, а мачты столбов выше и крепче...
- Понимаешь, я помню ее намного большей. Вот видишь, это флагшток, здесь по утрам поднимали, а по вечерам спускали флаг лагеря. Я тоже делал это, радуясь оказанным доверием. Вот так буквой П, - я показал рукой, - строились отряды. Это здание за деревьями - штаб.
Оттуда по субботним и воскресным вечерам радист транслировал танцевальную музыку.
-Да, да. - Ты смотрела на меня и кивала головой, как бы соглашаясь. И мне хотелось верить, что ты чувствуешь эту разницу вместе со мной, разницу, к которой время однажды приводит каждого.
Пионерский лагерь был таким местом, где тогдашние радисты, будущие прообразы нынешних ди-джеев, могли транслировать любую зарубежную музыку, и это почти не контролировалось никакими карающими органами. Там я впервые в жизни услышал “Битлз”, знаменитую до сих пор “Венеру” “Шокин Блю” и многие другие хиты самого начала семидесятых.
Танцы в лагере назывались массовкой. К массовке готовились со всей серьезностью, копируя взрослую жизнь, стремясь повзрослеть, как можно скорее.
Девочки первыми после ужина начинали шуршать нарядами и готовить себе прически, о косметике в те годы им и не приходилось мечтать, на что у воспитателей был строгий запрет. После слегка вялые мальчики тоже оживали. Они доставали из своих чемоданов в камере хранения те вещи, которые казались им наиболее подходящими для самоутверждения между маленькими дамами. Помню, одно время мы украшали низы штанин отечественных джинсов незамысловатыми узорами из желтых металлическик клепок, двумя усиками, крепящимися с обратной стороны проколотой ткани. Чем больше клепок, тем лучше, значимее выглядел их обладатель. Оказалось, что многие вещи в детских чемоданчиках сберегались именно для массовок, даже у мальчиков.
Танцевали на площади, танцам учились друг у друга, подглядывая, как бы не специально. Повторяли, запоминали.
У нас было всего два танца: шейк и медленный. Танцевать медленный с девочками получалось не у всех мальчишек. Пары 10-12-летних танцоров вытянутыми руками прикасались друг к другу и топтались на месте в такт музыке. Кроме того, приглашая девочку, мальчик вполне мог получить отказ, если она мечтала о другом, а такое случалось довольно часто.
Хорошим тоном в лагере считалось дружить с кем-нибудь, то есть приглашать одну и ту же девочку на танцы, оказывать ей всевозможные знаки внимания: толкать ее, подергивать за косички, садится рядом при любом удобном случае, найти ящерицу и кинуть ей на кровать, обсыпать песком на пляже, да мало ли сколько прекрасных вещей уложено в голове мальчишек.
А таинственные записки между ними, передаваемые через доверенных лиц. “Толик, хочешь ли ты дружить с Катей? Если да, напиши”. Гордый Толик долго ходил павлином и думал, принять ли предлагаемую так легко Катину дружбу, или попытать силы еще где-нибудь?
Не все мальчишки оказывались в дамских любимчиках. Мне как-то не удавалось расположить сердца выбранных девочек ни спортивными успехами - всегда кто-то оказывался более ловок, быстр, сноровист; ни изяществом форм - всегда среди мальчишек находилась пара действительно красивых ребят, которые, сами того не ведая порой, становились кумирами большинства девчонок; ни манерой и умением одеваться. Не помогали прилизывание волос, школьные отметки, ничто - общение с девочками это совсем другая очень сложная наука, изучать ее мне пришлось много позднее. Да так оно, наверное, и лучше.
Кроме того, на площади происходили ежедневные линейки, всевозможные конкурсы, строевые парады с песней, праздники.
Вот память выхватывает момент, когда в гости в лагерь приехала делегация ГДР, иностранцы, большая редкость в то время казались, почти что инопланетянами. Хотелось подойти поближе и посмотреть: такие же они, как мы, или чем-то отличаются? Посмотреть бы поближе, пощупать руками. Но они ускользнули, как фантомы. Издалека казались обычными людьми, как все.
А вот я - уже планета Меркурий на параде планет, пересказываю скучный вызубренный текст.
Здесь же моя сестра, сжав кулаки от напряжения, читает стихи на каком-то забытом празднике.
А как мне хотелось быть барабанщиком! В нашем лагере, в торжественные случаи всегда горнисты и барабанщики пытались, как могли, изобразить какое-то подобие пионерского марша. Казалось, что прикоснись я к барабану, и он начнет сам выстукивать дробь. Меня манила гладкая белизна палочек и красная окружность барабана. Я даже записался барабанщиком в отряде, чтобы реализовать себя в этом. Но любому делу надо учиться, притом у тех, кто обладает хоть какими-нибудь знаниями в этом вопросе. Старшая пионервожатая, которой мы подчинялись, барабанить не умела, пионеры тоже толком ничего не знали, так и пропал мой барабанный пыл впустую. Стучал сильно, да слышал, что не так получается, как хотелось бы. До сих пор завистливо слушаю умелые пассажи барабанных асов, будь это ударник рок-групы или музыкант-горец, дающий ритм горячащей кровь музыке.
Маленькая площадь моего большого детства. Или наоборот?
Что же уменьшилось: размеры лагеря или размеры моего детства?
Господи, как сладко щемит в груди при воспоминании о детстве. Нет, детство все так же огромно, а вот все то, что казалось мне большим в этой волшебной стране, в которую больше никогда не получить въездную визу, стремительно сжалось, умалилось, дав тем самым рост мне.
И я уже готов к тому, что стремительное уменьшение ожидает все последующие объекты, которые мне предстоит увидеть здесь.
Мы свернули направо и прошли около штаба. Эта дорожка вела к футбольному полю и пляжу.
Ни одной живой души вокруг, хоть бы собака пробежала какая-нибудь. Даже мой мифический сторож не появляется, ходит, наверное, где-то по другим дорожкам. Стрекот кузнечиков, жужжание шмелей, снующих по цветущим кустарникам, и только. Необыкновенное спокойствие, тихое течение жизни. Может, это и есть настоящая жизнь? Здесь, вдали от шумного города с его бесконечной суетой, поиском денег, работы, благ, комфорта, лёгкой жизни.
Ой, ой. Разве так легко оторваться от того, во что врос? А когда-то мне намного ближе и понятнее был шелест листьев, блеск солнечного луча сквозь кроны деревьев, пение птиц, торопливые перебежки ящериц, прохлада дождя… Я иду по стране моего детства и не могу принять её в том виде, в котором она теперь.
Неухоженность и неустроенность чувствовалась во всем.
Раньше бывало, всё в лагере пахло свежей краской; серебрянкой покрывали многочисленные статуи пионеров с поднятыми в пионерском салюте руками, с барабанами или горнами; ремонтировали отвалившиеся за зиму доски, рамы; вставляли стекла, подновляли плакаты, подрезали кусты; на клумбах яркие соцветия призывно заманивали на себя пчел и шмелей. Где все это сейчас?
Я сорвал стручок плода акации, открыл с одной стороны, вычистил от горошин. Сделал свистульку, дунул. Ту-у-у-у-у на одной ноте загудела свистулька. Ты улыбнулась. Ту-у-у-у-у свистел я, как и раньше, будучи мальчиком в клетчатых шортах, спешащим по своим таким важным делам.
Вот по этой дорожке мы бегали шестидесятиметровки на лучшее время. Дорожка, окруженная колючими акациями, приводила на стадион и далее вела к озеру. Слева виднелись жилые корпуса отрядов. Помещения - одноэтажные домики на два отряда с верандами и комнатами вожатых и воспитателей - удалялись в сторону столовой.
Старшие отряды размещались в домиках ближних к штабу, дабы руководство имело лучшую возможность контролировать совсем уже больших мальчиков и девочек. Так мы с сестрой и перемещались год от года все ближе и ближе к штабу. Моя сестра младше меня на три года, но лишь один раз она отдыхала в другом отряде, не со мной вместе. Все остальные сезоны отдыхала с теми, кто был старше ее на три, четыре года.
Обычно, в первый день заезда, мы, заняв кровати в комнатах, выходили на улицу перед корпусом и выбивали пыль из матрацев, одеял, подушек. Застилали кровати свежим бельем, знакомились со сверстниками и воспитателями, выбирали командира отряда, в общем, обживались. Через пару дней жили так, как будто знали друг друга много времени.
Фильмов ужасов тогда еще не было, поэтому страшные истории о черной тумбочке и пропавшем альпинисте регулярно передавались из уст в уста на сон грядущий. Щекотало нервы так, что прогуляться ночью по малой нужде до ближайшего туалета, считалось почти геройским поступком.
По ночам спящим красили лица зубной пастой, Самые смелые Дон Жуаны вылазили через форточки для общения с девочками, которые никогда не покидали стен своих спален, но охотно переговаривались через приоткрытые окна с воздыхателями.
В дождливые дни собирались на веранде жилого корпуса и устраивали игры, чтение книг, разучивание речевок, песен. Но солнечных дней было намного больше, ведь Казахстан никогда не славился дождливой погодой.
Жаркое казахстанское солнце, как не хватало мне тебя в дальних странствиях, в городах и странах с вечно нависающими облаками и узкими полосками голубого неба, воровски проглядывающими из-под хозяйски расположившихся туч! Южное солнце, выжигающее приволье степей, где трава желтела уже в июле, а худосочные ручейки превращались в подсыхающие лужи, ты и сейчас все то же.
Мы прошли аллею и оказались возле футбольного поля, сузившегося от времени. Выкрашенные белой краской ворота, сиротливо жались по краям без игроков, без вездесущих мальчишек, без зрителей и болельщиков…На простеньком самодельном табло замерли выгорающие на солнце краски цифр счёта последнего матча: 2-1. О, время, что же ты делаешь с футбольными полями?
Не на этом ли поле десятилетним мальчиком я защищал ворота команды нашего отряда во встречах с соперниками? Не здесь ли впервые услышал фамилии Понедельника и Пеле?
Кстати, про последнего мальчишки мне пояснили вот что со всей детской серьезностью: у него на правой ноге, оказывается, была повязка, предупреждающая, что бить во всю силу этой ногой нельзя - убивает вратаря мячом насмерть. Но даже после такой наивной жути мне больше нравилось ловить мяч, чем бегать за ним по всему полю.
За футбольным полем - поляна, с одной её стороны - забор, конец лагеря, с другой - густые глубокие заросли ив, тополей, кустарников, а за ними озеро, желанная прохлада в звенящий летний зной. На противоположной стороне огромного озера - родной город в мареве плывущего от жары летнего воздуха.
Дорожка, сквозь заросли, по деревянному мостку над болотцем, приводила к песчаному горячему пляжу с буйками плавающих ограждений. Длинный досчатый пирс заканчивался насосной будкой. Желтизна пляжа с обеих сторон замыкалась мягким густым ивняком на суше и полосами камыша в воде.
Заходить на пляж без сопровождения воспитателей или вожатых запрещалось, строгие блюстители с повязками на руках (пионеры из дежурного отряда), не пропускали никого. Поэтому дежурство на пляже воспринималось, как награда: можно было вдоволь накупаться вдали от зоркого глаза взрослых, а имея удочку или, смастерив ее из ивовой палки, рыбачить, или бродить по пояс в воде среди густоты камыша, выискивая греющихся в тепле мелководья раков. А если все это уже сделано, то оставалось, сняв рубашку и брюки, обняв горячие доски пирса, смотреть на скользящих по глади воды жуков-плавунцов.
Вот и конец лагеря.
Мы сворачиваем в сторону от страны моего детства. Последними со мной прощаются поляны, покрытые одуванчиками.
Когда-то они представлялись мне солдатами монгольской Орды, вступившей на Русь. Я находил ивовый прут и “защищал” страну от захватчиков, хлеща неповинные одуванчики прутом, как саблей, срубая мохнатые шапки их голов, наводя историческую справедливость. Или просто бродил по полянам, вбирая в себя кипящую в травах жизнь насекомых: заворожено наблюдая за работой шмеля, выясняя куда спешат прыгуны-кузнечики, пытаясь поймать красавиц-бабочек, подкидывая в муравейник гусениц, чтобы проверить, что с ними сделают в муравьином кибуце.
А стрекозы, которых мы разделяли на три вида в зависимости от размера: маленькие ниточки-иголочки, побольше собственно стрекозы и огромные буйволы. Поймать буйвола было не так-то просто, требовались терпение, осторожность, реакция. Схватишь его за крылья, чтобы не повредить их, а после этого привяжешь буйвола за хвост ниткой и выгуливаешь беднягу, как собачку. Буйвол машет крыльями, скользит по воздуху хрупким вертолётиком, но никак не может улететь дальше нити, пившейся ему в хвост.
Засушенные стрекозы, кузнечики и жуки хранились в пустых спичечных коробках и были предметами гордости их обладателей. Обменивались на фантики, хранились коробки с насекомыми в чемоданах юных натуралистов, увозивших маленькие мумии по домам в конце сезона.
А сколько книг из библиотеки лагеря я прочитал. Уединившись с книгой, я обычно забирался на высокие деревья и лежа на длинных, раскинувшихся, словно распахнутые руки, сучьях деревьев весь отдавался чтению. Не телевизор был моим источником информации, а книги, заставлявшие думать, мыслить и мечтать.
Как плакали девчонки, когда приходило время расставаться. Клялись встречаться каждый месяц, каждый год, всем отрядом на заранее условленном месте в условленное время. Но, как правило, из этого ничего не выходило, память стирала и время и место предстоящих встреч, новые интересы и новые друзья наполняли продолжающуюся жизнь. В ней тогда еще не было места прошлому. Вся жизнь была впереди.
Вот и все. Мы уходим дальше, и возврата нет, и не будет. Прощай “Чайка”, прощай огромная навеки любимая страна. Неужели теперь, после того, как я увидел тебя иной, ты останешься в моей памяти съежившейся от моего неожиданного появления? Или не так-то просто перевернуть те огромные пласты времени в себе самом?
Я не хочу ее терять такой, какой знал раньше и обрести другую, чужую, принадлежащей кому-то другому. Не хочу и, вдруг, понимаю, что не потерял её. Просто, сжав, до невообразимо малого размера это пространство, навсегда поместил его в своё сердце, оставив таким, каким любил его чистой детской любовью.
Не потерял, но …подарил другому мальчику, который пока и не предполагает, что окажется здесь однажды. Что будет впитывать многообразие жизни через этот кусочек Земли и полюбит её, но не будет знать этого до времени.
Нет, ничто не в силах трансформировать память - субстанцию страстей, переживаний и познаний.
Прощай, «Чайка», мы уходим.
Где-то там далеко в будущем нас ожидает наш, пока еще не родившийся, сын.
Может быть, ему подарит эта страна себя, но, как и мне, лишь на время, на малую часть, а значит навсегда.
|