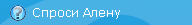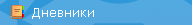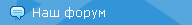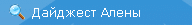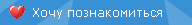Старая кленовая ветка сбросила с себя еще один лист. Недавно — сочно-зеленый, теперь — безжизненно коричневый, он небрежно коснулся твоего окна, приник на мгновение к стеклу, встретился с тобой взглядом…
Не бойся, Теодор. Это всего лишь — мертвый кленовый лист. Он уже отправился дальше — на встречу с землей — своему последнему пристанищу.
Никаких причин для беспокойства, Теодор. Будь безмятежен. И даже если я и есть тот самый лист, то тебе все равно ведь не дано знать об этом…
Где-то на соседних дачах жгут листья. И — дождь… Такой мелкий-мелкий, такой надоевший. Сыро и мерзко, правда, Теодор? Не твое это время года. Не твое, знаю…
Но тебе пора, Теодор. Поторопись… Завтра выходной, но ты все-таки поспеши…
И не задавайся ненужными вопросами, не надо. Переодевайся, садись за руль.
Спеши, Теодор, спеши.
Так вдруг захотелось на городскую квартиру, правда? Правда. Там по комнатам витает иллюзия определенности и защищенности, которая как-то сама собой почему-то исчезла здесь, на даче.
Не думай ни о чем, Теодор. Поспеши — и все.
Вот она, твоя уютненькая, ласкающая взгляд зелененькая «Маздочка»… Ждет тебя, словно послушная и преданная глуповатая собачонка — обожаемого кормильца-хозяина.
Спеши, Теодор, спеши…
Женечка уже в пути. А ему и ехать дольше, и везет его в Одессу из Николаева не новенькая «Мазда», даже не среднестатистический «Москвич», а уставший от затянувшейся однообразной жизни автобус. И место Жене досталось в этом устаревшем виде транспорта неудобное — скрипучее и продавленное…
Торопись, Теодор…
И не беспокойся о дороге. Все будет хорошо, мой несостоявшийся мужчина со странным именем. Все будет просто замечательно… Блуждающие в тебе сомнения пусты, поверь мне. Ничего не случится с тобой в дороге. Ни листопад, ни дождь, ни паршивое настроение не приведут ни к какой аварийной ситуации. Все будет нормально, опять-таки прошу поверить мне…
Ветер поднялся? Листья прямо в лобовое стекло? Плюнь, Теодор. Не обращай внимания. Не помешает тебе засуетившаяся под ветром листва. Она, снова напоминаю тебе, мертва. И тот лист, что заглянул в твое окно, и все его собратья. Нет их, Теодор. Они — иллюзия. Точь-в-точь как я теперь…
Не о чем тебе волноваться. Переходи на любую скорость. Ты никого не собьешь — ни человека, ни собаку, ни кошку. И ни один гаишник не обратит на тебя никакого внимания — хоть правила нарушай, хоть доводи спидометр до бешенства, если тебе хочется.
Спеши, Теодор, спеши…
У меня есть к тебе лишь одна просьба. Пожалуйста, отыщи старую кассету с музыкой Таривердиева… Она есть, есть, я знаю. Ты не выбросил ее. И она в твоей машине. Поставь ее, пожалуйста, очень тебя прошу.
Помнишь, как мы заслушивались сначала пластинками с этой музыкой… Потом — бобинами… Потом — кассетами… Я вот только не успела послушать Таривердиева на лазерных дисках…
***
Что, Женечка, устал? Не от дороги ты устал, знаю. От мыслей обо мне ты устал, романтик мой несчастный.
Глупый, глупый Женька…
Автобус трясет тебя, не убаюкивает. Ты же, как всегда, ничего не продумал заранее, не построил никаких планов, не позаботился о современном и комфортабельном виде транспорта. Примчался на автовокзал, взял последний билет на последний автобус, следующий в Одессу. Вот и тащит тебя эта колымага, жесткая, старая, унылая. А ты и этому рад, Женька.
Рад, знаю…
Чему еще ты радуешься, Женька? Бумажке с адресом Теодора Гаева?..
Нет, я не стану ни просить у тебя прощения, ни пытаться оправдываться, ни молоть какую-нибудь романтическую чушь. Во-первых, тебе все это, слава Богу, не дано услышать. Во-вторых, я виновата и перед тобой, и перед остальными… Так виновата, что никаких слов не отыщешь…
Вот это и есть самое страшное — не найти тех единственно необходимых слов… Самое страшное?.. Подожди, дай подумать… Нет, не в словах дело… Не в их присутствии или отсутствии. Нет, не в них, конечно. Слов вообще не нужно… Так, во всяком случае, мне показалось однажды. Так показалось, что подумала — вот она, истина, схваченная за хвост. И я промолчала… Тогда, на катере… Но ты не знаешь об этом, Женечка. Ты не знаешь…
А я разве знаю?..
Мои мысли шатает, как и твой автобус, который с удовольствием сдал бы сам себя на металлолом. Одна радость — ты меня не слышишь… Меня ведь нет. Я — кленовый лист, коричневый, с желтыми разводами. Я шуршу себе потихоньку, поддаваясь осенней непогоде, почти невесомая, бесцельная, неприкаянная. Никакая…
Ты можешь быть доволен, Женька. Ты приедешь вовремя. И сможешь застать дома Теодора Александровича Гаева. Ты увидишь его, Женька…
Больше того, ты получишь то, за чем едешь в Одессу.
На кой только оно тебе надо, Женька?..
Глупый, глупый ты, Евгений Степанович Авраменко, сорокадвухлетний мужчина среднего роста, среднего телосложения. Такой среднестатистический, с такой обычной внешностью. Ты был так незаметен в толпе, Женька! И это каким-то странным образом влекло к тебе. Словно хотелось решить задачу. Простую, казалось бы, задачку: кто такой? Почему никаких особых примет?
Эту загадку решали многие, Женька. Ее решала твоя жена… Она так и не решила. Не успела. Засиделась в медовом месяце с тобой, перерадовалась вашему засахаренному единению…
Снова меня не туда повело, Женька. Что поделаешь — ветер меняет направление. И это он, октябрьский ветер, несет лист совсем не туда, куда надо.
А куда надо?..
***
Ну что, Теодор, прошелся по своим трем комнатам? Все в порядке, правда? И ты уже расположился в кресле, умиротворенный и сонный.
Что, опять захотелось послушать Таривердиева? Удивляешься, что захватил старую кассету с собой из машины? В дороге слушал — показалось мало? С чего бы это, Теодор? Что за сентиментальное наваждение? Ну что ж, подкорми магнитофон скрипящей кассетой из прошлого. Все бывает. Осень опять же. А лучше завари себе кофе, устройся в кресле, вруби телик…
Не хочется… Потерпи, ждать осталось совсем немного…
Опять я забыла, что ты никого не ждешь.
Но он все равно придет, Теодор.
Он даже потратился на такси. А ведь он беден. Денег у него никогда не было. И вряд ли они появятся в карманах его старого пиджака. Деньги ведь — как черта характера: они либо есть, либо — нет…
Так вот, Теодор, ты, конечно, можешь завалиться спать, раздумывая, а какого, собственно, черта тебя потянуло в город, когда ты твердо решил провести выходные на даче. На воздухе то есть. В тишине, напоенной осенней влагой. Ты, конечно, можешь… Но…
Звонок, Теодор. Да, да, тебе не показалось — это не телефон. Это звонят в дверь.
Сколько времени? Половина десятого? Чуть поздновато, конечно. И это, скорее всего, Галина Валентиновна, соседка напротив. Ей всегда скучно. И она любит поговорить. Хотя ты всячески этого избегаешь…
И ты идешь открывать, не слишком злобно матеря в душе назойливую одинокую старуху, с которой, однако, ссориться окончательно все же не решаешься, потому что она — соседка. Все-таки лишний глаз за квартирой.
Нет, это не Галина Валентиновна, Теодор.
Это — незнакомый тебе мужчина. Вы родились в один год и даже в один месяц. Но под разными созвездиями. Астрологи скажут… Нет, я не знаю, что они скажут. Они вообще много говорят…
Вы стоите друг против друга. Вас разделяет порог. Ты, Женечка, пытаешься изобразить располагающую улыбку (она получается у тебя подобострастной). Ты, Теодор, пытаешься понять, как это тебя угораздило открыть дверь в полдесятого вечера, предварительно не посмотрев в глазок.
Все очень просто. Одного из вас любила я. Второй любил меня.
Это и в самом деле так просто, так банально. Это случается почти в каждой судьбе. Если вообще случается.
Я не знаю о других. Мне хватило своего. С избытком. Нет, я не жалуюсь. В моем положении уже не воют от безысходности и злобы.
Может быть, порадоваться этому?
Но в моем положении не радуются…
Ветер, ветер виноват во всех этих отступлениях.
Мои мальчики, Теодор и Женечка, стоят, смотрят друг на друга. Один — как будто пришел просить прощения, другой — с откровенным недоверием.
Хватит смотреть друг на друга. Твоя реплика, Теодор.
— Кто вы? — спрашиваешь ты так зло и угрожающе, что бедный Женька совсем растерялся.
Не бойся, Женечка. Теодор не набросится на тебя с ножом. Это он от страха. Он тебя боится, Женя. Время такое, Женя. Две тысячи третий на дворе. За три гривни могут прикончить. Столько случаев всяких бывает… Ты только не молчи, ответь ему. Пусть поймет, что твои намерения можно назвать как угодно — идиотизмом, шизофренией, навязчивым состоянием. Но злых умыслов у тебя нет никаких. Наоборот. Совсем ведь наоборот. Ну же, Женька…
— Меня зовут Евгений. Я из Николаева. Валерия… Валерия Горенко… Ваша… бывшая жена… Я… знал ее. Я — к вам.
Итак, Теодор, бояться нечего. Это всего лишь какой-то не совсем нормальный тип, ты уже понял, да? Давай, очень хочется послушать…
— Валерия?.. Валерия никогда не была моей женой. Мы знали друг друга… Несколько лет… А что вы хотите? Вы ее муж?
Спасибо, Теодор. Молодец. «Знал несколько лет»… Самое главное — правда. Я никогда не была твоей женой.
— Я… Нет, я не был ее мужем…
О, вот тут, Женечка, тебе захочется быть откровенным. И смелым. И ты добавляешь:
— Я ее любил…
Теодор, ты пожимаешь плечами… Я тебя понимаю. В половине десятого вечера. Незнакомый, немного жалкий с виду мужчина. Со словами любви. Обо мне. О той, с которой ты был знаком несколько лет.
— Поздно, молодой человек. Я занят. И вообще… Что вы хотите?
— Нам нужно поговорить, — говоришь ты, Женька.
И спасибо тебе за твою решительность. Вот только толку от нее мало. Потому что твой красивый собеседник, тот самый Теодор, блондин с зелеными глазами, о котором ты так много слышал, заявляет тебе, ударяя откровенностью наотмашь:
— Мне не хотелось бы говорить о Валерии. И вообще…
— Так вы меня не впустите?
— Думаю, что нет. Я занят. До свидания.
Правильно, Теодор. Здравомыслие, здравомыслие и еще раз — здравомыслие. Излишне взбалмошных натур в твоем роду и так хватало.
Ты закрываешь дверь перед Женькиным носом. Ты идешь в комнату, садишься в кресло и морщишься. Потому что как назло — кассета. Таривердиев исполняет соло на рояле. Ты думаешь — мистика какая-то. Старая кассета, забытая почти музыка, которую так обожала еще одна чересчур взбалмошная натура — Валерия Горенко.
Кассета, и вдруг — словно специально — какой-то тип захотел говорить о ней… Валерия. Лерка. Шаровая молния. Ожог.
Можно ли любить шаровую молнию?..
Лерка…
Лерка — это я.
Я — это мертвый кленовый лист.
Теодор… Пожалуйста, встань, подойди к двери. Посмотри в глазок…
Ты встаешь из кресла, выключаешь магнитофон. И медленно-медленно, неслышно, подходишь к двери.
Твой неудачный посетитель сидит на лестнице. Примостился на ступеньке, не подумал, что пыльно, что и плюнуть кто-то мог. Сидит, руками голову обхватил. Да, он не ушел. Он думает о чем-то. Знаешь, Теодор, ему ведь некуда деться в этом городе. Он к тебе приехал. Ты открываешь дверь. И говоришь этому жалкому субъекту:
— Не сидите на лестнице. Заходите.
Женька, не маши так радостно головой. Хозяин квартиры окончательно решит, что ты — псих. А психов он не жалует.
Кто их, собственно говоря, жалует?..
Ты ведешь Женьку на кухню. Накорми его, Теодор.
— Кто вы? Какое отношение имеете к ней? К Валерии…
Женька, оторвись, наконец, от тарелки. Я знаю, ты ешь не только потому, что голоден. Так тебе проще. Ты ищешь нужные слова. А слов нет. Их ведь, нужных, как всегда, нет… И вот ты низко склонился над этой тарелкой. Совсем низко, Женечка… Словно спрятался. Комплекс страуса. Но ты же все-таки инженер… Ты руководил отделом… Ну, что же ты… И так смешно выглядит, как ты с набитым ртом начинаешь усиленно жевать и давиться, торопясь дать ответ…
— Никакого, Теодор, я к ней отношения уже не имею, — говоришь ты. — Она погибла. В девяносто пятом…
Ну, Теодор… Как?.. Никак? Нет, пожалуй, так — почти никак. Смерть все-таки. И мы ведь ровесники. И поэтому нетрудно догадаться, что в девяносто пятом мне было только тридцать четыре. И я тебе тогда еще снилась. Только не знала об этом.
Это ведь только теперь я знаю многое. Теперь, когда знание это — ни к чему. Оно уже не доставляет никаких ощущений.
Какие могут быть ощущения у кленового листа?..
***
Мальчики мои, мальчики… Один и второй… Такие разные. Такие…
Молчите вы что-то слишком долго. И Женька, бедный, все жует и жует, чем вызывает раздражение у тебя, Теодор. А ты, Женька, смотришь на Теодора как на счастливого соперника. И привычно ненавидишь его. Не терзайся, Женя, не надо… Кого ты ревнуешь, глупенький?.. Лист, у которого все предопределено? С листом все ясно, Женька: потреплет его ветер, поиграет, и бросит то ли в костер к собратьям, то ли на землю для удобрения…
Жуй, Женька… Держи паузу. Думай, Теодор, вспоминай… А мне пора рассказать вам обоим старую легенду. Потому что именно с легенды началась история, нашедшая продолжение сегодня, в октябрьский вечер две тысячи третьего года…
Наша с вами история.
Твоя, Теодор. Твоя, Женька. И меня, неприкаянного кленового листа…
В одна тысяча восемьсот девяносто восьмом году, в древнем городе с красивым названием Феодосия, жила семья старого чеканщика Самвела. Жили они недалеко от старой мечети Муфти-Джами. Семья была большая и бедная. И был у Самвела младший сын Вардан, тоже чеканщик. Неудачный, кстати, сын — хромой и некрасивый. Потому, конечно же, любимый.
Вардан был нелюдим и хмур. И так малоразговорчив, что некоторые считали его немым от рождения. Целыми днями сидел Вардан в полуподвальной мастерской, доводя до совершенства свои чеканки. Он работал, часами не выпуская из пальцев чеканы, — специальные металлические выколотки, — и появлялись на медных листах волны и корабли, люди и звери, птицы и цветы…
Чеканки Вардана раскупались быстро, быстрее даже, чем работы его отца. И Вардан был доволен. Только никогда не показывал этого. И улыбаться как будто вообще не умел.
Постукивали чеканы по медным листам. Трудился Вардан. Старался. Молчал.
Ему исполнилось двадцать, когда однажды он встретил на улице Ольгу. Обыкновенную девушку, дочь мелкой купчихи Савельевой. Он и раньше видел ее иногда. И в лавку к купчихе ходил. Зайдет, пальцем на товар покажет, расплатиться молча. Уйдет. И девочку Ольгу там иногда встречал. Не замечал? Не вглядывался?
Бог его знает, но именно тогда, в тот день, он как-то особенно посмотрел на черноглазую девушку, торопившуюся куда-то ранним утром. Посмотрел. Остановился. И продолжал смотреть ей вслед. А вечером, отложив работу, Вардан уже крутился возле дома купчихи, всматривался в освещенные окна за забором. И не видел ничего. Окна были зашторены. И было тихо.
Ему не повезло в этот вечер. И в следующий не повезло. И через неделю. Но Вардан дождался своего часа. И уже очень скоро он говорил Ольге о своей любви. А черноглазая Ольга смеялась, смущаясь, опускала глаза. А когда поднимала их, то у некрасивого чеканщика все переворачивалось внутри от счастья. И задумался он тогда: а как же передать на чеканке неповторимую черноту глаз своей любимой?
Он работал ночи напролет, но ничего не получалось. Не Ольга появлялась на медном листе. Другая. Красивая, может быть. Даже необычная. Но не Ольга.
Черные глаза… Ее глаза. Только ее, Ольгины… Не выходило.
Влюбленные стали прятаться, боясь, что мать Ольги узнает об их встречах. Узнает — не простит. Негоже купеческой дочери держать за руку неприглядного бедняка Вардана. Негоже ей слушать пылкие признания из уст инородца. А Ольга держала. А Ольга слушала. И за развалинами старой крепости она отвечала на его поцелуи. И говорила ему: «Миленький…».
Феодосия — маленький городок. Не удалось влюбленным прятаться долго. Увидели люди — стали слухи распускать. Купчиха Савельева не снизошла до чтения нотаций. Не стала увещевать единственное свое чадо и наследницу. Посватался к дочери купец Градов — мать Ольге сообщила:
— Дмитрий Харитоныч тебе честь оказал. Руки твоей просит. Пойдешь за него.
И Ольга пошла. Плакала, пальцы и губы себе искусала, а пошла.
Из церкви выходила, в толпе Вардана разглядела — споткнулась. Люди шептались: «Примета недобрая…».
Вардан закрылся в мастерской. Не работал. Думал. Не плакал — молчал. Совсем замолчал. Старый Самвел за сына испугался. Решил женить. Вардан сказал:
— Не надо, отец… Не женюсь.
Не женился. За чеканы опять взялся. А портрет Ольги все не получался. Не проступали черные глаза на медном листе. Не слушались пальцы — что-то не то делали…
Он Ольгу иногда встречал. Она глаза опускала. Он не заговаривал. В мастерскую возвращался. Изводил себя.
Ольга умерла через год. С тоски. С отчаянья. В горячке.
Он у ее могилы несколько ночей провел.
Люди думали — помешался.
К сороковому дню ее кончины Вардан закончил чеканку. Сорок сантиметров на двадцать пять. Девушка с черными глазами. Как получились — сам не понял. И никто не понял.
Закончил чеканку — умер. Со скалы бросился.
Люди с тех пор так и называли — Варданова скала…
…Что приуныли, мальчики? Легенда печальная? Все легенды печальны. Потому что на жизнь очень похожи.
Похожи — и только…
И так же далеки от нее, от жизни этой непонятной…
Кстати, именно эту легенду услышал на феодосийском базаре одессит Павел Павлович Гаев. Было самое начало века — тысяча девятьсот первый год. Павел Павлович ходил по базару, приглядываясь и прицениваясь, что бы такое привезти в подарок своей беременной жене, с нетерпением ожидавшей мужа, уехавшего по делам в Феодосию. Денег было у Гаева мало, а подарок хотелось сделать хороший.
Старик-армянин продавал чеканки. Много чеканок. Разных. И цветы с птицами, и море с кораблями. Но взгляд остановился на одной. Девушка. Волосы собраны в высокую прическу. А глаза…
— Сколько эта черноокая стоит? — спросил.
Старик посмотрел странно. Ответил:
— Нравыца? Так бэры. Нэ нада дэнег. Сын мой дэлал. Всэ в доме гаварат — продай. Я нэ хатэл. Так бэры.
И Гаев взял. И еще переспросил:
— Бесплатно, да?..
Старик не ответил. Спросил только:
— Далыко увызешь?
— В Одессу.
— Вэзы.
Сцену эту старушка наблюдала. Старушка была любопытна. И все знала. Она Гаева догнала, поинтересовалась:
— А вы хоть знаете, что купили?
— Мне подарили, — признался удивленный Гаев. — А что?
Старушка легенду и выдала. Говорила быстро, боясь, что ее не дослушают. И добавила, что старый Самвел совсем плохой теперь, после смерти сына. А вещь эта, чеканка то есть, хоть и красива, но не надо бы ее было брать…
Павел Павлович Гаев был человеком несуеверным, потому старушку вежливо поблагодарил, а чеканку в тряпицу завернул, потом — в бумагу, чтобы довезти хорошо, Наденьке своей подарить. И еще Гаев радовался, что так хорошо все вышло — и вещица красивая, и денег не стоит…
Хорошо все вышло…
Павел Павлович Гаев… А ведь это твой прапрадед, Теодор… Ты что-то должен помнить из рассказов своей бабушки, правда? Да, что-то такое… Да, что-то такое — и про легенду, и про чеканку, которую, кстати, никогда не видел. Но ты сейчас не думаешь ни о каких легендах… Твой мозг занят другим, я знаю.
И, кстати, о легенде… Еще немного о старой легенде…
Людям так свойственно оборачивать события в слова, словно колбасу — в упаковочную бумагу. Нет, не в целлофан. Именно — в бумагу. Целлофан прозрачен, значит — конкретен. Бумага немного сказочна, потому что дает возможность надумать себе что-то, нафантазировать. Пока не раскроется пакет, конечно.
Вот так точно обернули в нечто розовое и неконкретное старую историю, которая действительно произошла в маленькой Феодосии. Да, влюбился обычный себе чеканщик Вардан в девушку Ольгу. А девушка Ольга и думать не думала прятаться с армянским парнем за старой крепостью, ибо воспитания была строгого. Достойного. Посмеивалась себе над младшим чадом огромной армянской семьи, когда тот пялил на нее глаза. А потом вышла замуж. Скончалась она вовсе не с тоски по возлюбленному, а от инфлюэнцы, то есть гриппа. И не бросался Вардан ни с какой скалы, и не называл никто эту скалу Вардановой. Да и скалы никакой не было, как и ночных бдений чеканщика у могилы возлюбленной. Вардан элементарно утонул, потому что больную ногу свело судорогой… Достаточно распространенное явление… Так что расстояние между вымыслом и правдой в старой легенде, привезенной Гаевым вместе с чеканкой из Феодосии — огромное. Такое же примерно, как от высшей точки на Вардановой скале до морского дна, куда плавно опустилось мертвое тело бедного чеканщика.
А вот чеканка… А вот чеканка как раз была. И Вардан в самом деле сумел передать на листе меди размером сорок на двадцать пять сантиметров черные глаза… Ольги — не Ольги, какая разница… Тут другое. Все его работы были — так себе. А эта… Глаза — два угля. Вот-вот запылают…
***
Ну что, мальчики, пригляделись друг к другу? Теодор, не надо раскаиваться в благородном поступке. Не надо себя мысленно ругать, что впустил в дом этого голодного мужика. Что разговор никак не клеится. Что вообще… И в частности…
Женька, и ты не майся… Говори. У тебя получится.
Я знаю.
— Я выгляжу идиотом, понимаю. Это было давно. В девяносто пятом… Нет, раньше, конечно. В восемьдесят девятом Валерия приехала в Николаев. И устроилась к нам в отдел. Это был большой завод. Отдел научно-технической информации… Я руководил этим отделом… Она… Она была так несчастна, — вдруг добавляешь ты, Женька, как бы не к месту.
Поймал упрек в голосе собеседника, Теодор? Поймал. И сразу перехотелось тебе окончательно слушать Женьку, потому на фига он тебе, этот Женька с упреками, да?
— Нет, вы не перебивайте, пожалуйста, мне многое еще нужно успеть, — просишь ты, мой чуткий Женька.
Молодец… Давай дальше, он дослушает…
— Понимаете, у нас был отдел такой… Мы занимались научно-технической информацией. Тогда это было на уровне не очень высоком, понимаете? Понимаете…
— Понимаю, понимаю… Короче можно?
— Да, конечно. Извините… Так вот, тогда ни компьютеров еще… В общем, одна маломощная ЭВМ, но мы справлялись… Завод большой… Валерия приехала, к нам устроилась… Я так долго объясняю… А ведь главное я уже сказал… Я любил ее… И не только я…
Теодор, а ну-ка поставь его на место, как ты это умеешь — одной фразой. Что он лепечет тебе о своей любви? Он ведь о другом должен, раз уж приехал и сообщил… Логично?
— Как она умерла? — спрашиваешь ты с настойчивым спокойствием.
— Она погибла… А вообще… Она исчезла… Мы были на катере. Она попросила пива… Она не любила пиво. Но почему-то попросила… А людей на катере почти не было… Знаете, уже не сезон. Тем более, там, на корме, где мы с ней стояли… Холодно уже становилось… Я спустился в бар. Бар был закрыт. Я поднялся. Я поднялся, а ее уже… не было. И никто не видел. И тело не нашли. Исчезла. Она такая… Ты должен знать. Ты не можешь не знать.
Женька, ты окончательно смяк. Ты запутался…
— Так это было самоубийство?
— Она исчезла, — упрямо повторяет Женька и смотрит тебе в глаза, Теодор.
Тео-дор…
— Так вы, — делаешь ты ударение на том, что вовсе не собираешься переходить на «ты», — приехали мне рассказать о вашей маломощной ЭВМ, о смерти Валерии и своей любви к ней?
— Нет, — говорит несчастный Женя, прикрывает глаза и мямлит что-то невнятное.
— Я не понял вас…
— Я о чеканке приехал с вами говорить… Все остальное — так… Вас совсем не задело, что ее уже нет?
— Какое вам дело? — искренне спрашиваешь ты, Теодор.
Ты прав, Теодор. Ты… Понимаешь, ты ведь всегда был прав… И действительно, какое ему дело? Тоже мне, заезжий исповедник.
— Да, конечно… Она говорила… Но это действительно, как я понимаю, вам уже не нужно…
И он смотрит на тебя, Теодор, с последней надеждой. Он впечатлителен до безобразия, Теодор. Встреться он той самой Валерии раньше… Получилась бы такая замечательная пара — два витающих в небесах… Чуть не сказала — кленовых листа… Нет уж, лист — это только я… А вы себе живите. И договоритесь же, наконец… Постойте, а куда спешить…
Ты не хочешь обо мне говорить, Теодор. Это прекрасно. Потому что никому и никогда не пояснишь то, чего не понял сам. Ты поначалу и понимать не пытался. Самое замечательное в тебе — это умение жить просто так. Жить — как дышать. То есть, как-то вот живется само собой — и ладно. Это ведь единственный способ сохранить себя подольше. И не этому же приезжему рассказывать обо мне. Тем более обо мне — в связи с самим собой. Тебе никогда не требовался задушевный собеседник. И это только лишний раз доказывает главное — ты здоров. Ты здоров, Теодор. И это прекрасно, любимый мой мальчик.
Сколько нам было с тобой, когда мы стукнулись друг о друга в институтском коридоре? По девятнадцать, да? Именно стукнулись — лбами, довольно болезненно. Ты читал на ходу какой-то учебник, я почему-то засмотрелась на плакат, изображавший сосредоточенного и вместе с тем задорно-розовощекого комсомольца. «Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!». Да, именно это изречение было написано огромными красными буквами вверху плаката…
Мы потирали свои пострадавшие лбы, и ты вдруг сказал:
— Какие глаза!..
Мои глаза… Ненормально черные глаза…
У листьев нет глаз… У листьев ничего нет. Участь этих опавших созданий печальна…
Нисколько не печальнее, правда, чем то, что началось со мной с того дня, когда мы с тобой столкнулись в коридоре родного политеха…
…— Какая чеканка? — спрашивает Теодор.
Ну же, Женька, не мямли. Не перескакивай. Объясни ему. Давай же, Женька!..
— Это старая чеканка. Я знаю о ней. Валерия рассказывала… Она принадлежала вашей семье. Вы, Теодор, никогда ее не видели. Но слышали. Вспомните. Девушка с черными глазами… Вам бабушка рассказывала, а вы — Лере. Так вот, я, кажется, знаю, где она находится.
— Кто? Кто где находится? Я вас не понимаю! Или говорите внятно, или…
— Чеканка. В том доме на Молдаванке, где вы родились. В сарае. В старом заброшенном сарае. Я вычислил. Я попытаюсь объяснить. Только вы не кричите на меня, а то я все время сбиваюсь…
Вот и я сбиваюсь, Женя. Но мне простительно. А ты ведь всю дорогу речь готовил. Старый автобус вытряхнул из тебя все внятные словосочетания? Что ты пугаешь Теодора? Как ты смеешь… Ой, меня опять занесло… И даже, кажется, оторвало остренький уголочек на самом верху. Коричневенький такой уголочек… Значит, моя тайная надежда на гербарий вянет на корню…
***
Увы, Теодор… Увы, Женя…
Вы снова замолчали. И снова каждый окунулся в какие-то свои ощущения… Я знаю, инстинкт самосохранения где-то на уровне подсознания подсказывает вам, что все еще впереди. Уйма времени впереди. Разговор ваш не клеящийся — впереди. Ненужное выяснение отношений…
А впереди-то как раз и нет ничего… Инстинкт самосохранения — вещь опасная. Он-то, конечно, часто оберегает от всяких там глупостей, но и лжет нередко.
Вы молчите… Женя изучает вилку. Теодор — ноготь на среднем пальце левой руки. Тишина.
Что ж, я расскажу вам обоим еще кое-что…
Твой прапрадед, Теодор, привез в Одессу чеканку. Обыкновенную чеканку — девушка себе как девушка. Ну глаза… Ну и что? Ну рассказала старушка какую-то легенду. Ну и что? Не от прапрадеда ли ты унаследовал свое трезвое мышление? Свою единственную гордость…
Чеканку повесили на стене. Наденька, жена Павла Павловича, любовалась ею, хвалила выбор мужа. Муж радовался. Легенду жене рассказывал, не особенно напирая на всякие там услышанные им от болтливой старушки страхи.
И родилась у них дочь. И назвали они ее Полиной. Это была твоя прабабушка, Теодор.
Годы шли. А чеканка все висела себе на стене в доме на Молдаванке. В доме было два флигеля. Остальные постройки — сараи. В них держали уголь. Жизнь текла тихо. Размеренно.
Была во дворе печь. Такая вот печь, которую топили раз в году. Как раз между сараями какой-то умелец-печник соорудил. Ты застал ее, Теодор. Ты должен помнить… Эту печь растапливали один раз в году. Весной. В ней пекли паски. Именно — паски. Местный диалект требовал именно так произносить то, что производят из пасхального теста. Слово «кулич» здесь не употреблялось вовсе…
Тесто у Полины Гаевой получалось лучшее во дворе — на зависть и бабе Кате, и бабе Люсе, и тете Гале… И бережно вынимались потом из форм высокие и пахнущие только так, как может пахнуть хорошо выпеченное пасхальное тесто, паски…
Твоя прабабушка, Теодор, была спокойна, как и полагается девушке-невесте. В семнадцатом она обручилась. Но женой так и не стала. Погиб жених. Жених погиб, так и не успев дать свою фамилию твоей прабабушке, Теодор. Прабабушке и младенцу, которого она носила в себе. Да, так вот получилось. Согрешила прабабушка. Не дождалась венчания. Над женщинами в вашем роду вообще что-то такое… Нет, не надо мистики. Ты не любишь мистику, знаю… Твоя бабушка Анна получила фамилию Гаева. И была, следовательно, незаконнорожденной. Но она родилась в двадцатом, году довольно смутном, а потому никто во дворе особенно не шептался. Так, для порядка разве что. Тем более что прабабушки твоей вскоре не стало. Воспитывала девочку прапрабабушка, та самая Наденька Гаева, которой привез когда-то муж из Феодосии последнее произведение несчастного хромого Вардана.
Анна подрастала, бабушка ее старела… Сказки ей рассказывала. Чаще всего — про чеканку. То ли помнила эту легенду лучше других сказок, то ли в память о муже сама для себя лишний раз повторяла, чтобы не забыть. И стояла Анна у чеканки, приглядывалась повнимательнее в лицо таинственной девушки… И поняла вдруг — похожа она на нее. И бабушка не раз повторяла:
— Ты, Анечка, на девушку эту с портрэта похожа что-то очень… Береги чеканку. Это не просто так… Это дедушка твой из Фэодосии привез… Я беременна матерью твоей была…
Она вздыхала и чуть слышно всхлипывала.
Она так и говорила: «портрэта», «Фэодосия» — через «э». Хотя никаких армянских корней не имела.
Одесский язык — вещь вообще довольно странная…
Бабушки, дедушки, чеканки…
Вы все молчите, мальчишки мои сорокадвухлетние… Все не начнете о главном. Что же, мне одной все говорить и говорить, а?
Вам меня не услышать. Мне — не докричаться…
Меня ветер может вот-вот унести куда-то, ведь все уже предопределено, а вы молчите, не торопитесь…
Что же мне теперь, как и раньше, все одной, да? Одной и одной… Да, конечно, я не всегда была жертвой. Но даже когда становилась палачом, то только играла… «Наиграла» только вот слишком уж много всякого… Так наиграла, что потом не выпуталась… Черные глаза… Угли… У меня они-то откуда? А у Анны, мать и отец которой — голубоглазые?.. Нет-нет, Теодор, никакой мистики. Дальше, только дальше.
Анна Гаева… А рядом во флигеле — Жора Устимович. Другом детства не назовешь, потому что старше был на десять лет. Тоже мне, препятствие для нежных чувств… Только бабушка твоя, Теодор, воспылала к соседу вовсе не нежными чувствами. Она загорелась, словно угли, на которые были похожи ее глаза. И скоро во дворе стали шептаться. Случилось это незадолго до войны. «Моя бабка влюбилась в соседа, — рассказывал ты мне, Теодор. — Совсем спятила от любви…».
Да, Теодор, она «спятила». Теперь-то я знаю… А тогда я смеялась вместе с тобой, потому что думала, что меня «минет чаша сия». А сама-то ведь я уже пила из этой чаши. Неужели не понимала? Крышу ведь уже сносило по полной программе. Как же так… Хотелось вторить тебе, да? Подстраиваться под тебя? Вот я, мол, смотри: своя девочка. Своя в доску.
Если бы я знала…
Теперь знаю…
Теперь поздно…
Потому что для меня уже нет ни теперь, ни завтра…
Жора Устимович смотрел на чеканку, смотрел. Однажды сказал:
— Вот в такую бы я влюбился. Она немного на Шурочку Павлову похожа…
Почему на Шурочку Павлову, подумала Анна. И чуть не закричала:
— Да ты присмотрись повнимательней. Она на меня похожа! Вернее, я на нее похожа. У нас глаза — один в один!
Но Жора посмеивался в ус, благодарил за чай, уходил к себе в сарай, где часами мастерил из старых деталей довольно сносные велосипеды. Жора Устимович был-таки помешан на велосипедах!
Анна заносила ему в сарай свежие бублики, в глаза заглядывала, вопросы задавала о велосипедах его дурацких. А он никак не реагировал. Называл Аннушкой, правда. Ну и что? Не поцеловал ни разу, к себе не привлек…
Анна ждала. Однажды дождалась…
Дождалась, прежде всего, разговора, довольно неприятного, со старой бабой Тасей. Насчет старой — может, и преувеличение. Возраста ее никто толком не знал. Вполне вероятно, что и сама не знала. Баба Тася, да баба Тася… Она и для тебя была бабой Тасей, Теодор, помнишь? Она умудрялась не меняться. Встречаются иногда люди, которые чуть ли не с малолетства становятся бабками и дедками. Она была такой.
Бабу Тасю во дворе на Молдаванке побаивались. Она отличалась какой-то невероятно сдержанной гордостью, ходила прямо, высоко держала голову. А если вслед кому-то из соседей смотрела, то те как-то сжимались, съеживались, старались побыстрее поздороваться и пройти мимо. В доме на Молдаванке здороваться было обязательным ритуалом. Говорить нужно было не как-нибудь там «здрась», а членораздельно, внятно, желательно и головой покивать, демонстрируя полное дружелюбие. Баба Тася жила одна, все обо всех знала, обо всем имела собственное суждение. Могла отругать. Могла похвалить. Могла промолчать, но так, что лучше бы выматерилась. Материлась баба Тася редко. Но метко.
Именно баба Тася и поманила к себе полусогнутым пальцем Анну, высматривающую однажды утром своего Жору.
Анна повиновалась, потому что выхода иного не было — она была истинной дочерью двора, порядки знала. Она подошла к бабе Тасе и поздоровалась. Ее голос слегка дрогнул, как, собственно и установлено было неписаными правилами внутреннего распорядка в доме на Дальницкой.
А баба Тася выдержала положенную паузу, и высказалась откровенно на странном диалекте, который не всегда понимали даже ее соседи.
— Здравствуй, Анна, здравствуй… Ви, Гаеви, странные все какие-то… Не мое дило, канешна, токо ты, Анна, зря за Жоркой бегаешь. Дивка у него есь. С Костецкой. Шуркой звут. Так шо бублики ему не таскай. Зря ета все. От… Зразумела?
— Да, — сказала Анна и улыбнулась.
— А ты не лыбься. Смотри, как бы не реветь потом… Ихние вон… Керосина нету второй день…
— Какого керосина? — спросила Анна.
— А ето я вже не тебе грю. Ета я Фросе грю…
Анна Гаева обернулась. Никакой тети Фроси не было и в помине. И Анне стало не по себе. Собственно, как и всегда от встречи с бабой Тасей. Она всегда так неожиданно прерывала разговор — то ли переходила на другую тему, то ли просто заговаривалась.
Анна не особенно обратила внимание на зловещее предсказание насчет «реветь потом». В двадцать лет восприятие другое, по себе знаю. Баба Тася — она и есть баба Тася. Карга старая… Или не очень старая… Какая разница…
Не было, конечно, никакой разницы, сколько исполнилось лет и зим местной полуведьме-полуненормальной тетке. Стоял такой прекрасный май. И на душе было светло и радостно. Потому что был Жора. Он чинил и мастерил велосипеды и улыбался, припрятывая улыбку в усы…
Она решилась. Она подошла к его сараю почти ночью. Но там было темно. И дверь была закрыта. Она уже решила уйти обратно, радуясь, что не наделала глупостей. Но потом, когда глаза привыкли к темноте, она поняла, что замок на сарае не висит. Да и дверь прикрыта как-то необычно. А потом услышала… Шепот… Еле слышный смех… Один тихий голос принадлежал Жоре. С кем он был? Кому шептал что-то?
Она дождалась, Теодор. Это от бабушки своей ты унаследовал терпение, да?..
А ждать ей пришлось долго, почти до рассвета. Она спряталась за печью, в которой пекли паски.
И увидела Анна, как из сарая выскользнула тоненькая фигурка Шурочки Павловой с улицы Костецкой. И поняла Анна, что именно происходило там, в сарае, заваленном велосипедными деталями…
Спустя несколько минут она каталась по полу в своей квартире. Безучастно разглядывала и выслушивала ее рыдания Ольга со старой чеканки. А ничего не понимающая бабушка читала над Анной молитвы и плакала, хотя и не знала толком, что же случилось с бедной ее внученькой…
На дворе стоял май сорок первого…
Я знаю, что случилось с бедной внученькой. Я знаю, Теодор. Да, сейчас я обращаюсь именно к тебе. Ты так и не понял. Ты подумал, что она спятила. Потому что знал свою бабушку уже такой — чуть спятившей, злой, нелюдимой. Она любила тебя одного. И предсказывала тебе, что ты встретишь девушку с черными глазами. То есть меня. Ей было очень важно, чтобы это было именно так. Она жила этим. Потому что, откатавшись по деревянному плохо выкрашенному полу, она поднялась другой. Чем-то вдруг ставшей похожей не на Ольгу с чеканки, а на ту самую бабу Тасю, так пугавшую ее с детства одним своим видом… Но об этом потом…
Об этом потом. Хотя даже я не знаю, сколько времени еще есть, чтобы договорить свой монолог. Вы же по-прежнему молчите, вы думаете каждый о своем. Но это не так страшно. Ваша пауза по меркам вашего времени не так уж и затягивается. Это у меня тут…
У меня тут все иначе. Иначе — и все…
Анна Гаева поднялась с пола. Сняла со стены чеканку. Всмотрелась. Поцеловала зачем-то семейную ценность. И вышла во двор. Она знала, что встретит не бабу Тасю и не какую-нибудь другую соседку, обязательно бы полюбопытствующую, что это там Анна несет. И кому несет. И зачем… Она знала, что встретит того, кого нужно. И она встретила. Жора Устимович посмотрел на Анну, поторопился объяснить:
— Я на работу, Анечка… А ты что, плакала что ли?..
Жора был здоров, крепок и совершенно счастлив… Так показалось Анне. И она, в общем, была недалека от истины. От истины был далек Жора, боявшийся опоздать на родной судоремонтный завод. Анна Гаева ведь не плакала. Анна Гаева просто перестала быть Анной Гаевой.
Никто не понял, Теодор. Ни ее бабушка, ни соседи, ни сам Жора. И потом не поняли — ни ее дочь, ни ты… Никто. Даже я не поняла, когда ты рассказывал иногда. Я и не задумывалась. Хотя именно мне и надо было бы… Я потом поняла. Когда понимать уже было и не нужно… Или все-таки нужно? Если это понимание дано — значит, так было надо, правда?
Кого я спрашиваю? Тебя, Теодор? Тебя, Женька?..
Они стояли в парадной. И Анна подумала вдруг, что старая лестница — их единственный свидетель. И она их понимает, потому что перила похожи на извилины. Она так подумала — и испугалась. И как было не испугаться этому странному сравнению?.. И тому, что оно пришло в ее голову?..
Анна протянула чеканку Жоре:
— Я не задержу тебя надолго. Не беспокойся. Бери. Это тебе. Это она, твоя Шурочка Павлова. Люби ее. А я буду любить тебя. Но тебя это уже никогда не коснется.
Он хотел отказаться. Он знал, что эта вещь издавна висит в квартире Гаевых. Но что-то такое незнакомое появилось в хорошо знакомых глазах влюбленной в него девушки, что он взял и промямлил:
— Спасибо… Ты про Шуру знаешь, значит?
— Очень даже хорошо знаю. Торопись. Ты опоздаешь на работу…
Жора Устимович вернулся, чтобы оставить подарок дома.
Анна стояла на лестнице. Она словно хотела дождаться, чтобы еще что-то сказать. И он посмотрел на нее, снова ничего не понимая. Он сказал, словно оправдался:
— Шурочка сегодня уезжает. К тете. В Николаев. На все лето… Мы теперь долго не увидимся.
Он говорил это просто так. Он терялся почему-то. Словно понимал, что Анна знает о том, что произошло между ним и Шурочкой в эту ночь. Она и правда знала. Но он-то и помыслить об этом не мог. Он бы не поверил, что Аннушка могла простоять почти всю ночь у его сарая, где им с Шурочкой было так хорошо. И девочка эта двадцатилетняя не испугалась… А если и испугалась, то даже и виду не подала… Он думал о Шурочке. Он не понимал Анну. Не понимал ее странного поведения, неожиданного подарка.
Он торопился на работу.
Анна не задерживала. Всего только ответила ему с некоторым опозданием:
— Кто знает, кто с кем и когда увидится… Да и увидится ли вообще…
На дворе заливался всеми красками май сорок первого…
Май прямо-таки был необуздан в желании радовать глаз, веселить, любоваться собой…
…Проводы на фронт были торопливыми, что в доме на Дальницкой считалось неприличным. В доме на Дальницкой свадьбы, крестины, похороны и другие знаменательные события должны были проводиться по соответствующему укладу. Чинно, размеренно. Но это была война. Война — это неожиданность.
Баба Тася поманила к себе Жору, посмотрела, плечиками своими узюсенькими почему-то повела, спросила чуть издевательски про Шурочку Павлову:
— А де ж дивка твоя, Жьора?
— Закопал я дивку, баба Тася. В сарае. Так что прощайте.
Кажется, впервые в жизни бабу Тасю обескуражили. Баба Тася впервые в жизни не успела испортить собеседнику настроение. Баба Тася стояла с чуть приоткрытым от ужаса ртом…
Эту сцену, ни слова, правда, не слыша, наблюдала Аннушка Гаева. Наблюдала, думала… И вдруг испугалась. Захотелось выбежать, расцеловать его хоть единственный раз в жизни. Но как это можно было сделать, вспоминая, как он дышал той ночью, его нежный шепот и то, как произносил ненавистное ей имя — Шу-роч-ка…
А еще больше испугалась Анна, когда вдруг поняла — она больше никогда не увидит своего любимого, своего бесконечно чужого Жору Устимовича…
Жора Устимович погиб под Киевом в июле сорок первого…
***
Не унывайте, мальчики. Вам не уходить на фронт, слава Богу.
Вам нужно решить всего одну проблему, а потому все же придется говорить обо мне. Ты хочешь говорить обо мне, Женька, я знаю. Я знаю, к сожалению. И тогда, когда еще не была кленовым листом, знала. Помочь ничем не могла. Наоборот, только подталкивала к пропасти. Тебя. И других. В результате сама же себя в нее столкнула. Ты не должен был меня любить. И таблетки те глотать не должен был…
Кто кому что должен? Кто себе что должен?..
Ты полюбил ту, которая любить уже не могла. Она уже отлюбила. И стала пустой… Получается, что ты любил пустоту. А я никак не могла тебе это объяснить. Опять же, не нашлось нужных слов в нужное время.
Значит, слова все-таки нужны, да?
Не знаю, не знаю…
Да, Женька, больше всего на свете тебе хочется говорить обо мне. Потому что тебя никто уже не слушает. Валерия — Лера — Лерка — Горенко — «одна женщина» — «та, которой уже нет»… Все это уже так осточертело твоим немногочисленным знакомым, которых ты «перегрузил» и которые теперь просто-напросто избегают тебя…
А ты, Теодор… А тебе как раз меньше всего хочется говорить обо мне. Потому что я стала потихоньку стираться из твоей достаточно хорошей памяти. Она, память твоя, имеет такое отличное свойство — выбрасывать ненужное. Я же говорила, что ты здоров. Это так ценно в наше нездоровое время. А тут этот гость. А незадолго перед гостем — Таривердиев…
— Я вам все сейчас объясню… — в который раз начинает Женя Авраменко.
А Теодор смотрит на него уже даже без раздражения, потому что устал немного, потому что фразу эту его собеседник повторяет то ли в пятый, то ли в шестой раз. И ничего не объясняет, голос у него, видите ли, срывается. «Валерия…». «Чеканка…».
Какая чеканка? Откуда он про чеканку знает? Что Лерка рассказывала ему?.. И зачем… Тоже мне, тема… Рассказы полоумной его бабки… Ну и странное совпадение, конечно. Лерка — из Николаева. Теодор — из старого двора на Дальницкой. А оказалось, что связь между ними существовала так давно… А если не между ними, то между их пращурами… Ну и что?..
Теодор, твое трезвое мышление тебя же и подводит. Дважды два — конечно же, четыре… Но речь идет не о таблице умножения, Теодор… Какое же у тебя все-таки дурацкое имя. Постаралась твоя странная мамочка… Твоя мама, тетя Мила, тысяча девятьсот сорок третьего года рождения. Незаконнорожденная, опять же. Как и ты, между прочим.
«Ох, уже ети Гаеви», — неодобрительно шептала баба Тася, когда в разгар войны Анна Гаева родила дочь… Без мужа. Может быть, даже от румына. Скорее всего, именно от румына. И — вот же досада — никто ничего не замечал. Ну, что б провожал ее кто-нибудь в военной форме. Или хоть бы беременность просматривалась. Ну разве что когда Анна уже почти на сносях была… Что уж тут особенно обсуждать… Самое интересное-то проглядели…
Шурочку в свое время благодаря бдительности бабы Таси просекли… Шурочку с Костецкой, что путалась с Жорой. Шурочка уехала. В мае сорок первого. В Николаев. К тете. Оттуда на фронт рванула. Она такая была: если что решила — не отговоришь. Доводов не отыщешь. Она и помчалась на фронт, не зная пока о своей беременности. Что-то такое, правда, природа ей уже подсказывала. Но до того ли было Шурочке Павловой, комсомолке, если враг напал на ее горячо любимую Родину?!
А потом, когда та же природа уже вовсю забила тревогу, Шурочка Павлова, моя воинственная бабуля, решила так: скрывать, пока есть такая возможность. Да, Теодор, это была моя бабушка… И она скрывала беременность, пока могла, рискуя и собой, и ребенком, то есть моей будущей мамой. Бабуля была, как говорили во времена нашей с тобой комсомольской юности, идейная. Она в это слово вкладывала особый смысл, она так и осталась до конца своих дней в комсомольской юности, она, абсолютная атеистка, даже не догадывалась, что это и было ее религией…
Так вот, Шурочка Павлова доносила в себе мою маму до тех пор, пока ее отряд не попал в окружение. И во время безнадежного боя, где силы наступавшего противника во много раз превосходили силы оборонявшихся, Шурочка разрешилась от бремени скоротечными родами. От страха и безысходности, от шока она даже не успела почувствовать боль. И с тех пор не понимала, когда женщины, уже в мирное время, могли часами рассказывать о предродовых и родовых страданиях и муках…
Не было никакой вероятности выбраться оттуда живой. Да еще с младенцем. Но она выбралась. Вместе с немногими, кто остался в живых.
У нее потом будут брать интервью… И я стану смотреть на бабулю по телевизору. Она громко и звонко, словно отчитываясь на очередном партийном собрании, будет рассказывать о самом памятном эпизоде на войне. И подробности будут расти с каждым годом… Славные такие подробности. И медали у бабули станут прибавляться, как те самые подробности… И помрет она однажды на митинге, проводимом Коммунистической партией… Это будет в ноябре две тысячи четвертого. Седьмого ноября. На главной площади города… С портретом вождя в руке… Операторы склонятся над ней. И видеокамера скользнет по бабуле, чтобы показать ее в вечерних новостях, освещающих, как коммунисты славного города Николаева празднуют несуществующий уже праздник…
Она меня не любила… Нет, скорее она меня не замечала. Она жила партийной жизнью, вполне заменившей ей семейную, половую и любую другую.
Да, Теодор, да, Женя, моя бабушка пока еще жива. Вряд ли она помнит, правда, тот май сорок первого, тот сарай на Дальницкой улице и велосипедиста Жору, с которым случился у бабули грех…
***
Что, Женька, голова болит? Болит твоя глупая голова, да? И ты боишься, что тебе все-таки укажут на дверь…
Да говори же, Женька, говори… Хоть что-нибудь… А лучше — о главном…
— Знаете, когда Лера у нас появилась… Она такой независимой казалось, такой жизнеспособной… Но я сразу увидел в ее глазах какую-то… побитость, что ли… Затравленность такую… А глаза у нее удивительные были… Черные-пречерные. Как у ведьмы. В ней и в самом деле что-то такое было…
— Я знаю, — отвечает Женьке Теодор.
И мне, жалкому кленовому листу, превращающемуся под мелким дождем в полное ничто, делается чуть легче…
Легче ли? Кажется, все кажется. Мне — никак…
Я же знаю, что — никак…
Это память о прошлом хранит в себе ощущения оттуда…
Оттуда, из жизни, где бывает и легче, а чаще всего — очень тяжело. Даже невозможно…
Да, Теодор, именно в восемьдесят девятом я сбежала из Одессы. Нет не из города. От тебя. Я испугалась тогда. То есть пугалась я много раз, но тогда… Тогда пере-пугалась. Слишком уж. Инстинкт самосохранения подсказал: беги. Я и побежала, глупая, надеясь спастись. Я убежала в город своего детства. В Николаев. Я думала, что нашла выход… А выхода мне уже не было.
Так бывает — нет выхода.
Мне было двадцать восемь. Меня учили, что выход всегда есть.
Теодор, в девятнадцать лет мы стукнулись лбами в институтском коридоре.
Когда нам было по двадцать, ты в первый раз излишне сильно схватил меня за руки, заклиная, что самое лучшее у нас — впереди. Ты заклинал, ты просил, чтобы я простила тебя…
Я простила. Да какой там простила… Тоже мне, слово нашла… Я ведь и представить себе не могла, что такое вообще можно — не выслушать тебя, не понять, не принять все твои слова на веру. И то, что лучшее — впереди… Это же так понятно, а как же иначе?..
Да, опять тороплюсь. Мне, как вы оба помните, всегда не хватало размеренности в суждениях и поступках…
Вы себе разговорились, наконец. Я опять забегаю то вперед, то назад, пытаясь поправить вас, остановиться, чтобы задуматься… А это в принципе невозможно. Как невозможно отыскать то единственно правильное решение, к которому так стремятся граждане всех времен и народов…
Говорите, мальчики, говорите… Знаешь, Теодор, ты не удивляйся, что упоминание о чеканке вдруг перенесло тебя в детство. Не удивляйся и тому, что тебе захотелось вспоминать о нем вслух.
Говори, Теодор, говори…
…Как и повелось, по словам бабы Таси, «у Гаевих», ты родился от незарегистрированной в загсе любви, в достаточно мирное время, в шестидесятом. Твоя мать произвела тебя на свет, едва успев закончить среднюю школу. Кто был твой отец, никто в доме на Дальницкой так и не узнал, хотя обсуждался этот вопрос в каждой квартире в отдельности и у дворового крана на импровизированном общем собрании. Кран стоял посередине двора, проглядывался из каждого окна, и твоя бабушка, понимая, что обсуждают в данный момент ее дочь, тихонечко нашептывала своей непутевой Милке:
— Ничего, ничего… Пусть трепятся… Посмотрим…
Она возлагала на тебя большие надежды, Теодор. Она именно тебя избрала исполнителем своей непонятной мести.
Или такой понятной?..
Но мне придется опять вернуться к собственной бабушке, воинствующей Шурочке Павловой. Война для нее окончилась вместе с первым криком моей будущей матери. Бабуля не дошла до Берлина. Бабуля исполняла материнский долг. Есть у меня обоснованное серьезное подозрение, что бабушка тяготилась своим внеплановым материнством, помешавшим ей совершать героические подвиги на поле брани.
Война закончилась, бабуля попала в Николаев, стала на партийный учет и стала изо всех сил утолять свою вечно неутоленную жажду быть полезной родине хотя бы в мирное время. Верочка подрастала. Она не мешала бабуле в ее деятельности на идеологическом фронте, хорошо училась, была примерной девочкой. И — главное — не мешала. В шестидесятом, правда, окончив школу, она почему-то отчаянно засобиралась выходить замуж. Никакие уговоры, требования и воспитательные беседы матери не помогли. Одноклассник Ленечка заполнил ее мысли до отказа. Мало того, Вера вдруг стала задавать вопросы, которых Александра Павлова не ожидала. Вера стала спрашивать об отце. Более того, она даже подсчитала, что ее появление на свет — не итог военно-полевого романа. Верочка требовала ответа. Она знала, что ее мать до войны жила в Одессе, и перед замужеством девочке страшно захотелось познакомиться с отцом. Партийный работник растерялась. Ее застали врасплох. Она не подготовилась заранее. А на ходу сочинить историю про красивую любовь с красивым одесским парнем, который стал летчиком, ей не хватило фантазии. Как не хватило воображения в красках изобразить прощание перед уходом обоих фронт, трогательное обещание ждать друг друга. Ну, и, конечно же, героическую смерть любимого во время неравного воздушного боя.
Кроме того, партия учила говорить правду. И Шурочка Павлова сказала правду. Почти правду. Она упустила «сарайные» подробности. Но адрес назвала. И Верочка, моя бедная мама, помчалась в Одессу в надежде познакомиться с отцом.
Это был шестидесятый год. И ты уже был в этом мире, Теодор. Мила Гаева гуляла с тобой по улице Дальницкой. Ты лежал в коляске и спал. Твоя бабушка стала странноватой после того, как провела ночь под сараем Жоры Устимовича. Твоя же мать была такой с рождения. Она мало говорила и много читала. Читала, правда, одного и того же автора. Теодора Драйзера. Прочтет — перечитает. И снова прочтет. И так по кругу. Так и прожила всю жизнь. С томиком Драйзера в руках. Как она умудрилась завести что-то вроде собственного романа, в результате которого появился ты? Одно закономерно и вполне понятно — имя твое, доставившее тебе столько неприятностей в виде насмешек...
В дом на Молдаванке зашла девушка, покрутилась посередине, чуть нахмурив брови. Она не знала, что по меньшей мере шесть пар глаз уже изучают незнакомку из окон. Девушка стояла у крана. Того самого, что в центре двора.
Баба Тася вышла первая. Она смотрела на Верочку, вопросов не задавала. Ждала. Дождалась. Девушка спросила у нее:
— Вы не подскажете, где живет Жора… Георгий Устимович?
При упоминании фамилии Устимовича, баба Тася сплюнула, промямлила что-то непонятное себе под нос про какую-то «дивку» и пошла по направлению к дому. Но она не зашла в парадную. Чутье подсказывало ей, что уходить рановато. Все только начинается. Баба Тася не ошиблась. Анна Гаева, распрямив плечи, с ведром в руке направлялась к крану.
— Вы кого спрашиваете? — спросила она.
— Георгия Устимовича. Он…
Анна Гаева молча подставила ведро под струю воды, снова выпрямилась, поинтересовалась:
— Зачем он вам?
Верочку Павлову мама учила говорить правду. И она сказала:
— Я его дочь.
Твоя бабушка, Теодор, застыла. Вода переливалась через край. А она стояла у крана, с ненавистью смотрела на несчастную мою будущую маму и молчала. Верочка закрутила кран. Она ничего не понимала. Ей стало страшно. Анна сказала вдруг:
— Пошли в дом!
И Верочка послушно поплелась за странной женщиной.
Твоя бабушка и предположить не могла, что события одной майской ночи перед войной имели вполне конкретные последствия. И эти последствия предстали теперь перед ней в виде худенькой девчушки, зачем-то явившейся бередить ее, Анны, прошлое.
На всякий случай, надеясь на чудо, она спросила:
— Твою мать Шурой зовут?
— Да. Александра Владимировна.
— В Одессе живете?
— Нет. В Николаеве. Вы об отце знаете?
— Погиб твой отец, — чуть ли не радостно произнесла твоя бабушка. — Нет его, Жоры Устимовича. В его квартире люди другие живут. А он погиб, — повторила она еще раз.
Верочка про отца все поняла. Женщина эта, правда, какая-то странная. Стало неуютно, захотелось уйти. Да и что ей до этой женщины? Война — есть война. На войне погибают. Ее отец погиб. И это понятно. Пора домой. В Николаев. На собственную свадьбу.
— Я пойду, — сказала моя будущая мама. — Извините.
— Никогда не прощу, — вдруг прошипела твоя бабушка. — Никогда. Я ему чеканку отдала… Я…
Она схватила Верочку за руку, та чуть не закричала от неожиданности.
— Вот, видишь эту стену? — спросила шепотом Анна. — Здесь чеканка висела. Я ее ему отдала. А он дел куда-то. Не Шурке, не маме твоей ли отдал, а?!..
— Я… не знаю… Отпустите меня. А то я закричу.
— Отпущу. Тебя отпущу, — вполне миролюбиво вдруг заговорила твоя бабушка, Теодор.
Она отпустила Верочкину руку и сообщила внятно, спокойно и даже как-то безразлично:
— Теодор уже подрастает… А ты выйдешь замуж и родишь дочь с черными глазами. С такими глазами, как на той чеканке… Это будет, я знаю… Твоя дочь полюбит… Как я когда-то твоего отца. И мой внук заставит ее страдать. Она будет страдать, да. Она станет кататься по полу, как я тогда, в сорок первом, в мае. Это будет… А потом она пойдет дальше, чем я… Твоя дочь станет разрушительницей… Разрушительницей…
Верочка стала пятиться к выходу. Твоя бабка ее не останавливала. Она ведь уже сказала все, что хотела сказать…
Она только успела повторить еще раз:
— Разрушительницей!..
Когда Верочка, рыдая, пересказывала своей матери жуткую историю про посещение двора на Молдаванке, моя бабушка ее резко оборвала:
— Что за мракобесие, Вера?! Что за чушь?! И я это слышу из уст своей дочери, комсомолки, человека с аттестатом зрелости…
Как ни странно, но слова партийного работника подействовали на мою будущую маму умиротворяюще.
Мама вышла замуж.
В шестьдесят первом родилась я. Валерия Леонидовна Горенко.
Девочка с черными глазами.
Как угли в ожидании огня.
Как страсть в поисках выхода…
***
Что ж ты наморщил лоб, Теодор?
О чем ты так сосредоточенно задумался?
Вспоминаешь? Музыка Таривердиева в тебе зазвучала, да?
О, эта музыка…
Женька, ты не сердись. Не сжимайся в страхе, что хозяин дома тебя выставит за дверь, так и не дослушав, так ничего и не сказав в ответ на твои явные и скрытые вопросы. Дай ему подумать, Женька. Дай ему сосредоточиться, вслушаться в зазвучавшую внутри музыку. Ты только помолчи немного.
Да, Теодор, это Таривердиев. И это — его музыка. То единственное, пожалуй, что нас соединяло. Ведь все остальное… Что это было, Теодор? Скажи, что это было? Что происходило с тобой и со мной все те девять лет? Почему я сознательно избрала роль жертвы? Знаешь, мой… Нет, ты не мой… И ничей. Ты никогда никому не принадлежал. В этом твоя сила. И потому воспоминания в тебе не бурлят, а всего лишь чуть теребят, не очень приятно, но вполне терпимо. И ты не задаешь себе вопрос: а что же это было? Ты всего лишь поневоле окунаешься в то уже далекое время, когда мы были студентами.
Мы — студенты политеха. Я живу в общежитии, в одной комнате с тремя девчонками. Их нет, потому что здесь ты и я. Девочки все понимают. И даже чуть-чуть мне завидуют.
Валя. Аленка. Зиночка…
Их нет. Мы — есть. Мы и Таривердиев на бобине. Магнитофонная лента не очень качественная. Но нам подходит. Нам с тобой все подходит. Лишь бы Таривердиев. Лишь бы никто не мешал… В девятнадцать вода в реках течет иначе, правда? Медленнее, да? И ты ласкаешь меня, а я пытаюсь посмотреть тебе в глаза. Ты зажмуриваешься. Зачем?..
Валя. Аленка. Зиночка.
Не завидуйте, глупенькие. Не такой уж красавчик этот Теодор. И не такой уж…
Конечно же, тогда я так не думала. Это я из сегодняшнего дня шлю привет той черноокой дурочке. Чуть инфантильной и слишком влюбленной. Это из сегодняшнего дня я говорю этой самой дурочке, что зря она чуть жалеет своих подруг. Ведь каждая из них по очереди скоро очутились в этих самых объятиях…
Теодор, тебе нужен был гарем, да?
И в этом все дело, да?
Ну объясни же мне, мне теперешней, которой уже нет, пошли мне мысленно ответ, Теодор.
Перед тем как превратиться в ничто так хочется понять…
Ох уж эта моя страсть к ответам на вопросы.
Я ведь давно уже знаю, что то и другое только в нас самих.
Но меня уже нет…
Чего же я жду?
Твоего раскаянья, Теодор? Но зачем оно мне теперь, теперь, когда я — всего лишь кленовый лист, мокнущий под дождем?
Комната в общежитии политеха… И ты ласкаешь меня под музыку Таривердиева… И все еще так прекрасно… И ты рассказываешь мне о своем детстве. Весело и образно ты обрисовываешь мне свой ветхий дом на состарившейся Молдаванке.
«Лерка, я — дитя асфальта…».
Да, Теодор, ты — дитя асфальта. И дитя Молдаванки. Старой Молдаванки, улицы которой в самом деле успели заасфальтировать как раз в период твоего детства.
Ты родился в старом доме. Без удобств. И без папы.
Твоя мама читала Драйзера. Твоя бабушка тебя обожала. Потому что свято верила: однажды ты встретишь меня и отомстишь мне за ее девичью обиду. Ее обидой был мой дедушка. Ответить за него должна была я. Логично, правда? Особенно если учесть, что мой дедушка, по большому счету, ничем твою бабушку не обидел. Просто он ее не любил. Но твоя бабушка отдала ему чеканку. Мой дедушка не понял, что это не подарок. Всего лишь залог будущей мести. А он, бедный, наивно посчитал, что Анна Гаева отдает ему семейную реликвию только потому, что изображенная на ней девушка так похожа на его Шурочку Павлову. На мою бабушку.
Бабуши-дедушки. Дедушки-бабушки…
Я-то перед ними в чем виновата?..
Виновата. Но не перед ними.
«Мое детство, Лера, утопили в керосине…».
Ты любил повторять эту фразу. И я хохотала.
Керосин привозили по средам. На соседней улице собирались счастливые обладатели канистр всевозможных цветов и емкостей. Канистры выстраивались в ряд. В очередь. Их хозяева стояли чуть в стороне, обмениваясь новостями. Новостей было немного. Международное положение никого особенно не волновало. Больше всего волновали цены на уголь и его качество. И ты с детства запомнил — «семечка», «орешек»… Тонна, полтонны…
В твои обязанности входило доставлять керосин по средам. Прислушиваться к колокольчику, которым хмурый небритый дядька возвещал о приезде машины по уборке мусора. Ты хватал ведро с мусором и волок его через подъезд на улицу. Мусорщик следил за содержимым ведра, иногда выхватывал оттуда какие-то тряпки, брезгливо принюхивался к ним, приглядывался и откладывал в сторону. Он всегда был недоволен. И тебя, маленького и лопоухого, это пугало…
Керосинщик Сема, напротив, всегда улыбался. Сема пропах керосином и тебя занимала мысль: когда он уйдет на пенсию, то тоже будет также благоухать или запах выветрится, вымоется, испарится… У Семы были гнилые зубы и тебе было противно к нему приближаться…
Ты ненавидел керосин и примус, которым его заправляли. Примус шипел громко и озверело. Его звук мешал тебе. Даже преследовал. И потому все неприятные звуки ты сравнивал с работающим примусом.
Для примуса нужны были специальные иглы. Чтобы прочищать маленькое отверстие, через которое тоненькой струйкой подавалось то горючее, за которым ты стоял в очередях по средам. Иглы продавались на Алексеевском базарчике. Бабушка брала тебя за руку и говорила: «Пойдем на Алексеевский. Там купим иголки для примуса и сухой спирт». Она косилась на твою маму. Мама зевала. Мама была безучастна. Бабушка что-то грозно шептала, хватала тебя и уводила…
Сухой спирт — тоже для примуса. Им прогревали горелку примуса перед тем как разжечь. Примус требовал много жертвоприношений.
Ты не хотел переться на Алексеевский базар. Ты не желал делаться жертвой примуса, потому что это рычаще-гудяще-шипящее пугало стало для тебя символом полунищенской жизни, твоей полоумной бабушки, кривым пальцем указывающей время от времени на стенку, где когда-то висела чеканка, холода по утрам, когда ваша несчастная печка не хотела растапливаться, похода в замерзлую и вонючую уборную, куда нужно было топать через весь двор.
Ты боялся смотреть в окна. Оба окна выходили во двор. А весь двор был уставлен палками-подпорками для белья. Подпорки с гвоздем на конце. Чтобы удобнее было зацепить за веревку. Палки служили иногда последним аргументом при выяснении межсоседских и межсемейных конфликтов. Помнишь, Теодор? Тетя Валя ловко отцепляет палку от веревки и что есть сил метелит своего вечно пьяного супруга — дядю Володю. И кровь на его лице заставляет тебя сжаться, потом — разрыдаться. А бабушка не понимает, что тебя так напугало. Подумаешь, жена с мужем разбираются. Пора привыкать. Это жизнь…
Ты не хотел такой жизни. Ты был еще слишком мал, чтобы предпринимать какие-то конкретные меры. Ты молча бунтовал. Ты накапливал обиды за горшок у кровати бабушки и мамы, за бабу Тасю, это дворовое страшило, которое вечно преследовало тебя в ночных кошмарах, а наяву смотрело тебе в след так жутко и так непонятно.
Баба Тася… Мне всегда было немного смешно, когда ты, двадцатилетний парень, член институтского комитета комсомола, способный студент, с каким-то суеверным ужасом, на полном серьезе, рассказывал про старую Тасю, кивавшую в сторону заброшенного сарая…
— Закопали дивку… Закопали… — повторяла баба Тася.
Она повторяла эту фразу неустанно. Повторяла каждому по очереди и всем жильцам вместе на какой-нибудь общей дворовой сходке. А когда в дворовой печи пеклись паски, то баба Тася доходила до крика:
— Не, ну вы сатрите на их. Тоже мне, хузяйки хреновые. Паски оне печуть. До праздника оне готовятся. А дивку там закопали, так нихто ж и не думаеть про ета!
На бабу Тасю не то чтобы внимания не обращали. К ней просто привыкли. И к ее «дивке закопанной» — особенно. Лишь бы вслед проклятий не слала. Проклятий боялись, это да. А дивка… Кто там ее знает, эту старую ворону Таську, что она, малость тронутая, мозгами, значит, поехавшая, имеет в виду…
А ты боялся, Теодор. А ты про дивку у бабки своей спрашивал. Но Анна Гаева думала не об этом. Она жаждала мщения. Она знала жертву. Она растила мстителя. Она даже и не предполагала, насколько они связаны воедино — «закопана дивка» и ее давно и тщательно запланированная вендетта.
«Что ты хочешь от меня, обремененного тяжелым детством с деревянными игрушками, Лерка?».
В самом деле, что я хотела от тебя, Теодор?
Любви? Понимания? Сочувствия?
Я искала у тебя сочувствия? У тебя, уже обласкавшего и Валю, и Аленку, и Зиночку? Почти у меня на глазах?
«Я — мужчина, Лерик. Пойми»…
Простила — значит, поняла?
Но почему ты выбрал для утех именно их? Тебе ведь было все равно — кого. Они просто оказались под рукой, да?
Как под рукой потом оказались те, другие, о которых ты мне же подробно рассказывал и снова советовал:
— Пойми…
И мне бы внять твоему совету. Мне бы понять. И спокойно уйти. Красиво. Но я не могла. Я растворилась в тебе, потому что мы были суждены друг другу. Так хотела твоя бабушка… И не случайно, значит, потащилась я в Одессу, нисколько не внимая уговорам мамы, которая так боялась, что мы и в самом деле встретимся, как ей предсказала однажды твоя бабка.
И мы встретились. И учились в одном институте. И столкнулись лбами. И потом все сопоставили. И смеялись, как все совпало. И я, балдея от счастья, не прочувствовала, что за всем этим стоит совершенно конкретное проклятие. И что оно может сработать…
У тебя были деревянные игрушки. Они достались тебе по наследству от мамы. На новые не было денег. А, скорее, не было желания приобретать их для тебя. В конце концов, не так уж дорого стоили яркие и смешные пластмассовые мишки и металлические машинки. Но твоей маме было не до тебя и не до бабушки. Она снова и снова погружалась в мир сестры Керри, Дженни Герхард и Фрэнка Каупервуда, перечитывала страницы, которые и так уже знала почти наизусть. Твоя бабушка методично готовила тебя к встрече со мной…
И мы встретились… Я повторяюсь? Я много раз повторяюсь, да? Но это же так объяснимо…
Я росла в нормальной семье. У меня были папа и мама. И преданная Коммунистической партии бабушка. Меня любили и даже баловали. Мне покупали игрушки. Много-много разных игрушек. Я росла в квартире со всеми удобствами. Что такое примус, я представляла себе довольно туманно.
Меня не готовили к мести.
Может быть, к жертве?
Старая чеканка… Произведение мастера Вардана… Бедный Вардан, ты любил или ненавидел, когда творил, а?..
Что, Теодор, вспомнились длинные рассказы бабушки?
Что, Женька, тебе вспомнились мои рассказы? Я ведь ничего другого и не могла тебе рассказывать, ты уж найди в себе силы понять… Сообразить, что у меня просто-напросто не было других тем, кроме как о Теодоре, о его детстве, о том, как мы с ним встретились и как расстались. О том, что нам суждено было столкнуться на мою беду… И о чеканке, конечно… Которую в глаза никогда не видел ни Теодор, ни его мама, ни я, ни ты, Женя…
Теодор, отключись от музыки. Нет никакой музыки. Тишина на кухне. Вы ведь снова молчите. Говорю я. Это — мой монолог. Мое соло. Под музыку Таривердиева. Потому что я заказала эту музыку. И звучит она для меня. Ты понял, Теодор? Мы девять лет слушали Таривердиева. А потом я целых шесть лет не могла слушать его, потому что мелодии возвращали меня назад, к тебе. А мне нужно было от тебя избавиться…
Избавиться…
Не оценила я твою бабушку, Теодор.
Разве я могла от тебя избавиться?
Но не об этом сейчас речь. Сейчас — музыка Таривердиева. И мне не больно ее слышать, потому что мне — никак. Мне нужно всего лишь довести до конца одно дело. И я доведу… Только потерпите друг друга еще немножко. Особенно ты, не слишком терпимый к чужим причудам Теодор. Подожди еще чуть-чуть… Так надо.
Не вам. Мне.
Осень постанывает. Осень проливает слезы.
Я прилипла к твоему окну, как когда-то, еще живая, прилипала к тебе.
Все повторяется, Теодор. С той лишь разницей, что теперь мне не страшно, как тогда. Тогда, когда я тебя просила:
— Пожалуйста, давай поженимся.
Ты подумал, посмотрел на меня, словно оценивая, и сказал:
— Это так банально, Лерка. Мы с тобой выше всех этих глупостей.
Ты приходил ко мне по пятницам. Оставался на выходные. Я, молодой специалист с только что полученным дипломом, снимала квартиру у одинокого дедули. Он казался глуповатым, глуховатым и подслеповатым.
Но он все понимал, слышал и видел.
Сказал однажды:
— Дура ты, Валерия. Этот твой Теодор — клоп. Неужели до сих пор не разобралась?
Я обиделась. Не на тебя. Не на себя. На деда. Но с квартиры не съехала. Дед брал недорого. И тебе ко мне было удобно добираться. Всего две трамвайные остановки.
Иногда ты приходил со своим начальником. Начальник напивался и смотрел на меня нехорошо. Он откровенно меня мысленно раздевал. Однажды я тебе об этом сказала. Ты спросил:
— У тебя проблемы с психикой, что ли? Откуда в тебе взялся комплекс старой девы? Это состарившимся девственницам все время мерещится, что их прямо-таки жаждут раздеть все мужчины подряд. Не дури. И не пугай меня.
Я заткнулась.
Мне хотелось быть самой лучшей. Самой удобной. Даже удавалось самой себе внушать, что твои подробные донжуанские исповеди меня всего лишь веселят.
Подумаешь, переспал нормальный здоровый молодой мужик с какой-то ничего не значащей для него бабой. Мужик ведь любит меня, а не ее…
Иногда тебе не хватало денег. А у меня были добрые родители. Они частенько мне помогали материально. И все у нас с тобой было общим. Это ведь так естественно.
Все было естественно и нормально. Только на работе меня иногда спрашивали:
— Ну почему же у тебя такие грустные глаза, Валерия?
Такие большие. Такие черные. И такие грустные.
Как ты, Женька, сказал однажды? «В ней побитость какая-то была»…
Да, была побитость.
В восемьдесят девятом ты пришел со своим начальником. Он обещал выбить для тебя загранкомандировку. В тот вечер ты был немного не похож на самого себя. Ты почему-то чуть заискивал передо мной, когда мы сидели за столом. Твой начальник привычно напивался и привычно меня раздевал глазами. Ты позвал меня на кухню.
— Лерик, тут такое дело… Ты понимаешь, я сейчас должен уйти. А Петр Алексеевич останется… Хорошо? Ты же хочешь, чтобы я поехал в Чехословакию, правда? Это же залог нашего с тобой будущего, понимаешь?
Я не поняла. Я переспросила:
— Как это Петр Алексеевич останется? Где останется? У меня? Зачем?
И ты посмотрел на меня недовольно:
— Лерка, ты же умница. Ты должна понимать. Он тебя хочет. Конкретно тебя хочет. Он сказал, что если ты не станешь ломаться, то вопрос с Чехословакией решен. Он же тебе нравится, правда?
— Совсем не нравится. Он мне противен. И ты это знаешь.
И тогда ты посмотрел на меня так, что стало понятно: я тебе сейчас противна. И знаю это.
— Если тебя настолько от него тошнит, что у меня сорвется загранпоездка, то…
Ты помолчал немного. Потом добавил:
— Ты ломаешься или прикидываешься? Никак не пойму. Неужели трудно для меня постараться каких-то там полчаса или час? Он пьян. Он быстро уснет. Так я пошел?..
Милосердное подсознание попробовало меня утешить. Оно подсказало выход — Теодор всего лишь проверяет меня. Он хочет удостовериться, что ему верна.
Но ты ушел, Теодор. И в дверях мне даже подмигнул:
— Будь умницей, Лерка.
Дверь захлопнулась.
Я упала на пол. Прямо возле двери. В коридоре. Я каталась по полу, как это случилось однажды с твоей бабкой, Теодор. Я каталась по полу и выла, как вот этот осенний ветер.
Проклятие подействовало? Твоя бабуля могла бы порадоваться. Но ведь она не видела этого. Чему же тогда радоваться?
Не видела, но слишком уж точно знала, что так и будет.
Так и случилось.
А в чем же, собственно, состоит проклятие твоей бабушки, Теодор? В чем страшная месть несчастной Анны Павловны Гаевой, ни с того ни с сего пославшей на мою неповинную голову страшные слова? Мало ли кто с отчаянья падает на пол, рвет на себе волосы и воет от бессилия?.. Так ли уж страшно это — упасть на пол?
Не это страшно, Теодор… Не это…
Тогда, перед самой войной, твоя бабушка упала на пол, оплакивая свое неразделенное чувство к моему дедушке — Жоре Устимовичу. Она страдала и извивалась на полу, словно раненое животное. Страшно не это. Жутко другое — подняться с пола другим человеком. Человеком, внутри которого уже нет ни разделенной, ни неразделенной любви. Ничего нет, кроме одного — неуемной жажды мстить.
Я поняла это, когда поднялась на ноги и посмотрела на свои пальцы. Ногти были сломаны. Один даже слишком близко к коже. Я посмотрела на кровь и сразу поняла, что имела в виду Анна Павловна Гаева. Потому что поднялась в тот вечер с пола не я, Валерия Леонидовна Горенко. Поднялась другая. Та, которая была уже в состоянии посылать проклятия. И мстить. Уже все равно кому.
Твой Петр Алексеевич икал и что-то пытался мне сказать. В чем-то признаться. Я его прервала:
— Не надо. Я согласна. Вот диван. Вперед…
Нет, я не оказывала тебе услугу, Теодор. Я четко следовала по следам давнего проклятия. Я становилась разрушительницей. Я сделала свой выбор. Я разрушала. Я начала этот мучительный процесс с себя самой. Собой же и закончила…
***
Ну вот, Женька, так и знала, что ты меня перебьешь. Ты набрался решительности именно в тот момент, когда мне захотелось закончить свой рассказ. Ну что ж… Ты уже набираешь воздуха в легкие, да?.. Да, но ты лишь вздохнул тяжело, чем заставил Теодора посмотреть на тебя внимательно… Не смотри на него так, Теодор, не пытайся понять…
Ну вот, Женя, ты стоишь у окна, ты всматриваешься в ночную улицу, ты прислушиваешься к дождю. А по мне лишь слегка скользнул взглядом. Правильно, все правильно… Так ли уж важен этот жалкий промокший кленовый лист, что прилип к оконному стеклу?.. Говори. Теодор ждет.
— Чеканка, — повторяешь ты это ключевое слово, словно называешь пароль. — Я почти уверен, что знаю, где она…
— У вас с Лерой не было других тем для разговора? Что вы повторяете, словно попугай — чеканка, чеканка…
— Чеканка, — упрямо говоришь ты еще раз. Да так уверенно, так настойчиво, что сам не узнаешь себя. — Знаете, вы правы. Валерия в самом деле говорила почти всегда лишь о вас, о вашем детстве, о дурацком проклятии… Да, действительно, ей всегда хотелось говорить лишь о вас… И я почти привык… Вот что смешно… Я принял эти условия игры… Она всегда играла…
— Вряд ли… Она не играла… Она была такой… От Лерки всегда двести двадцать било…
— Не надо… Пожалуйста, не надо… Я не хочу говорить о ней с вами. Вам не понять. Я не хочу. Я приехал за другим. Помогите мне найти чеканку… Нет, не перебивайте. Я знаю, где она. Я знаю, где ваша семейная реликвия. Я почти на сто процентов уверен… Мне это очень важно… Сарай Жоры Устимовича… Она закопана там. Помните — «Закопали дивку»? Я не знаю, откуда узнала ваша свихнувшаяся соседка об этом… Но она была права… Нет, не смотрите на меня так. Я не сошел с ума… Хотя очень близок к этому, наверное… Так вот, та ваша старая баба Тася повторяла про закопанную дивку и указывала в сторону сараев. Она была недалека от истины. Дедушка Валерии закопал там ту самую чеканку, которую ему подарила ваша бабка. И, вероятно, сказал однажды об этом бабе Тасе. А баба Тася уразумела это как могла, то есть дословно. И пыталась рассказать об этом всему двору. А ее не понял никто. Да она и сама толком не понимала, что говорит. Это же так ясно. Вам разве так не кажется? Жора Устимович закопал чеканку на тот случай, если дом разбомбят или случится что-то такое… Война ведь, понимаете? Он надеялся вернуться с фронта и раскопать свое сокровище… Ведь изображенная на ней девушка напоминала ему его Шурочку… Девушку с черными глазами… Как у Леры…
— Фантазер вы, Женя… И только, ради Бога, не начните плакать.
— Я уже свое отплакал… Мне нужна чеканка. Помогите мне ее найти. Пожалуйста, ради памяти о ней… Я знаю, чеканка принадлежит вам и вы…
— Послушайте, вы в самом деле считаете, что я потащусь с вами на Молдаванку и начну раскопки в сарае, которого уже давно нет? Сарай, который еще во времена моего детства негласно считался плохим местом?.. Какая чеканка, Евгений?.. Ваши предположения гроша ломаного не стоят. Вы больны?..
— Болен. Но не так, как вы думаете… Пожалуйста, Теодор, я очень вас прошу… Валерия… Ее уже нет, но вы же человек, вы должны понять…
Ты же человек, Теодор, ты же должен понять его… Самое смешное, что он прав. И ваши интересы полностью совпадают. Тебе не нужна чеканка, знаю. Но есть нечто другое, что тебе никогда не мешало, чего никогда не бывает много и что ты ценишь… Прости, пожалуйста, это снова голос той, из прошлого. Кленовый лист мудрее, он знает, что ты даже перестрадал в свое время…
В то самое время, когда уже другая Валерия Горенко переспала с твоим начальником. Не для услуги тебе, Теодор, а для придания себе шальной уверенности, что она способна принадлежать не только тебе…
И не знала я тогда, судорожно собираясь покинуть Одессу, что ничего тебе не перепало — ни загранкомандировки, ни покровительства твоего Петра Алексеевича. Он на следующий день вызвал тебя в кабинет и предложил уволиться. Откуда мне было знать об этом? Откуда мне было знать, что именно так вдруг поступил твой пьющий начальник? И ты не понял ничего и спросил его, что же случилось, что же это я такого натворила, когда мы остались одни. Он послал тебя матом. Что он понял в ту ночь, на том диване в моей квартире?
Откуда мне знать было тогда?
К чему мне задумываться теперь?
Откуда мне было знать, что ты позвонил в ту квартиру, что дверь тебе открыл тот самый странный дедуля и сказал, что я уехала неведомо куда? И что он добавил, что очень рад этому. А еще он сказал, что ты, Теодор — мразь из мразей.
Разве я знала?
Не знала.
Знаю теперь, когда это уже мне ни к чему.
Знаю и то, что ты отстранил хозяина квартиры и потопал в комнату, которая была как бы нашей. И что ты понял, что тебе некому теперь рассказывать о доме на Молдаванке, о своей бабушке, о бабе Тасе и примусе.
И как я могла знать, что ты присел на как бы наш диван и у тебя опустились руки? И тебе померещилось, что они пахнут керосином.
Как я могла знать, что с тех пор ты стал видеть сны? И что именно я, Валерия Горенко, приходила тебе в этих снах, живая и теплая.
И длилось так несколько лет.
Знать бы…
И что тогда?..
А озарение, пришедшее после того, как меня не стало — это как?
Это к чему?
Ни к чему.
Я не знала, Теодор. Я добровольно отправилась в город детства и юности, то есть в Николаев. Я обиделась на весь белый свет, но белому свету было глубоко начхать на мою обиду.
Осознанно или подсознательно поплелась я по своей новой дороге? Какая разница? Все уже рушилось внутри меня, и хотелось одного — рушить все вокруг себя.
Это был мой выбор.
При чем же здесь проклятие, а?
***
Я появилась на пороге отдела научно-технической информации. Я посмотрела и поняла — то, что нужно. Их было шестеро. Три пары. По штату было положено семеро сотрудников. Седьмой стала я. Без пары. Но я уже знала — не будет вам, ребята, никаких пар. Не хочу никаких пар, раз у меня не получилось. И такая вдруг сила появилась, такая сила…
Да, Женя, да. Это ты, начальник отдела, подумал, что берешь меня на работу. Это все остальные так решили, когда разглядывали меня. Я же знала — это я, ребятки, беру вас. Это я приглядываюсь к вам, чтобы навести здесь свой порядок. Мой порядок — беспорядок.
Хаос. Бедлам. Кавардак. Путаница.
Ты был в меру демократичен и в меру строг, бедный мой Женька. Ты вводил меня в курс дела. Остальные на меня смотрели. И твоя жена, Лидия Авраменко. И все остальные — Володенька и Любушка. Кузя и Муся. Володенька собирался жениться на Любушке. Кузя — на Мусе. Вы обращались друг к другу нежно-ласкательно. Вы вместе проводили время на работе и все свободное время — тоже. Вы были слишком дружны и все у вас было запланировано наперед. И все друг друга понимали.
Вас было шестеро. Я — одна.
Справилась…
Я посмотрела на Володеньку и он покраснел. Любушка побледнела. Так продолжалось примерно месяц. И чем больше краснел Володенька, тем больше бледнела Любочка. Очень скоро Володенька стал моим любовником. Любушку жалели наши сердобольные дамы. Отпаивали валерианкой. Говорили — это временно. Меня дамы возненавидели. И всячески это демонстрировали.
Володенька краснел и в постели. А я закрывала глаза и представляла тебя, Теодор. И ничего у меня не получалось.
Кому же я мстила?..
Кузя таскал мне цветы и нашептывал, что Володя элементарно глуп. Кузя вообще слишком любил слово «элементарно» и повторял его к месту и не к месту.
Муся рыдала прямо в отделе.
Кузя заменил Володеньку.
Твоя жена решила от меня избавиться. Она мне так и сказала:
— Ищи другую работу, грязная ты подстилка.
Я ответила:
— Поискала бы ты лучше слова помягче, Лидочка. Грубо ты как-то высказалась. А я таких вещей не прощаю.
Кузя был рядом со мной дольше Володеньки. Кузя продержался целый год. Потому что мне было все равно. А ему понадобилось три с половиной сотни дней, чтобы разобраться, что я элементарно не с ним обнимаюсь, целуюсь и делю постель. Элементарно с кем-то другим. Но я не подарила ему возможность уйти первому. Сама прогнала. И тогда он элементарно влюбился. И снова стал таскать цветы. И смотрел влюбленно и даже покорно.
Женя, ты смотрел на меня иначе. С тобой получилось сложнее. Я поняла — ты цветы таскать не будешь. Ты не влюблен в меня. Ты меня любишь. И мне даже сделалось не по себе. Даже решила и в самом деле уйти с работы. Но не ушла.
Потому не ушла, что так и не смогла больше слушать Таривердиева. Мой путь — разрушение, повторяла я себе. И понесла себя по этому пути дальше.
А ты, Теодор, был все время рядом. Нет, хуже — во мне самой. Ты мне так мешал, Теодор, так был неудобен. Ты был тяжелой ношей, которую мне было суждено нести, словно крест. Я не могла от тебя избавиться, Теодор, как невозможно освободиться и от креста, который тащишь на себе всю жизнь. И я стала разрушать дальше.
Звук чужого страдания заглушал, перекрывал мое собственное?
Женька, Женька… Примерный семьянин… Три года брака с Лидой — медовый месяц без перерыва… Что ж ты потащился тогда за мной, когда мне так не хотелось возвращаться домой с работы и я решила пойти к морю? Что ж ты упал передо мной на колени? Что ж ты наделал?..
Что наделала я?..
Четыре с половиной года ты был моей тенью. Четыре с половиной года ты был моим почти мужем, почти другом, почти братом… Ты умел слушать. Мне необходимо было говорить о Теодоре. О его детстве и юности. О доме на Молдаванке. О творении чеканщика Вардана. Я могла говорить об этом без конца. Ты взял на себя роль вечного слушателя и страдальца. И ты же меня убеждал, что счастлив.
Ты был счастлив, Женя?..
Настолько счастлив, что проглотил однажды невероятное количество снотворного, и остался в живых лишь чудом? И сделал ты это только потому, что я сказала, что нам пора расстаться… Я ведь к тому времени уже успела рассказать тебе о Теодоре все. И помногу раз. До мельчайшей детали.
Ты был счастлив, Женька?..
В больницу к тебе вызвали психиатра, потому что все, совершающие суицидальную попытку, нуждаются в консультации специалиста именно этого профиля. Я сидела у твоей кровати, когда вошел доктор. Мне хотелось ему сказать, что в помощи психиатра нуждается вовсе не вернувшийся с того света Евгений Степанович Авраменко. В помощи психиатра…
Нет… Я уже не нуждалась ни в чьей помощи. Мстительная эйфория, шесть лет продержавшая меня на этом свете, проходила. Все уже проходило. Кроме Теодора. И мне стало страшно. Настолько страшно, что я тебе, Женька, пообещала, когда ты выписался из больницы:
— Не нужно больше так делать. Я не люблю тебя. Но буду с тобой.
Ты был счастлив, Женька?..
***
Ночь на исходе, мальчики. Закончился дождь. И ваш диалог — тоже. Он получился жалким. В нем было слишком много пауз. Таких вот воздушных ям. Ваш диалог состоял из дыр. Говорила в основном я. Но не это главное. Главное то, что ты, Теодор, сейчас поднимешься, плеснешь воды на свое усталое от бессонной ночи лицо и скажешь Женьке:
— Поехали…
И вы едете на старушку Молдаванку, на Дальницкую улицу, в дом, который вот уже несколько десятилетий считается ветхим. Потому, наверное, и стоит себе до сих пор, целенький и невредимый.
Уже нет ни бабы Таси, ни твоей бабушки, Теодор. Нет и твоей мамы, давшей тебе жизнь и не очень благозвучное для одесского уха имя. Нет печи, в которой пеклись паски. По средам сюда не возят керосин. Вместо мусорной машины у входа во двор стоит контейнер для мусора. Все остальное изменилось очень мало…
Осталось лишь некое подобие того, что когда-то было Жориным сараем…
— Это здесь, — говоришь ты, Теодор. И голос твой почему-то чуть-чуть подрагивает, совсем как я. Ты недовольно косишься в сторону флигеля, где прошло твое детство и юность. — Ненавижу этот район и этот двор, и этот дом. Здесь никогда ничего не меняется. Все стоит, как и сто лет тому назад… Без признаков элементарной цивилизации… — Потом, покосившись еще раз на останки сарая добавляешь без паузы: — Сейчас, конечно же, соседи сбегутся смотреть, что мы здесь собираемся делать. Я не думаю, что нам позволят здесь копать…
— Шо собираемся копать, Теодор? — доносится до вас голос дяди Пети.
Дядя Петя — старожил. Он тебя помнит еще маленьким. Дядя Петя не меняется. У него хорошая память. Он рано встает и все знает. Он рад возможности пообщаться с бывшим соседом. А ведь ты обрадовался встрече с ним, Теодор. Знаешь почему? Знаешь. Его сарай находится рядом с той полуразрушенной постройокй, ради которой вы приперлись с Женей сюда.
Ты отводишь дядю Петю в сторону и волнуешься, что он не поймет.
Он поймет, Теодор. Потому этого хочу я.
Потому что у меня мало времени.
Дядя Петя не подведет.
Нет, твои сбивчивые объяснения до него, естественно, не дойдут. Ты ведь слишком торопишься, говоришь быстро и непонятно. Да и голос старой Таси тебе мерещится. И ты испугался этого ее: «Закопали дивку. Закопали!..». Как в детстве испугался.
Дядя Петя же конкретен. Ему никакие голоса не мерещатся. Да и мало ли что твердила там когда-то эта старая ворона Таська. Дядя Петя соображает лишь одно — нужны две лопаты. Он неторопливо идет за ключом от своего сарая. Он обстоятельно возится с замком, аккуратно пригибает голову у входа и с радостью выносит вам необходимый инструмент. Он это делает, Теодор. И ты удивляешься. Не надо, не соображай слишком долго. Это я так хочу, Теодор. Мне некогда.
Мусор над останками сарая Жоры Устимовича, словно надгробие…
Сарай мог не сохраниться. Его могли сравнять с землей. На его месте могли уже много раз что-то построить и перестроить.
Но так не случилось. Так не могло произойти. Потому что все было предопределено. Не для того Вардан увековечил свою любимую. Не для того Жора погиб под Киевом. Не для того меня не стало однажды…
Разгребайте мусор, мальчики…
Копайте, мальчики, копайте…
Торопитесь… Так нужно… Пока я еще не стала трухой…
…Тогда, в девяносто пятом… На катере… Погода была такая же. И время года — то же… Осень. Конец октября… Лиственная агония… Мне захотелось покататься на катере. Я уже знала? Какая разница — знала, не знала… Меня, по большому счету, уже не существовало. Меня не существовало с того момента, когда я поднялась с пола на чужой квартире в чужой Одессе…
— Катера уже не ходят, наверное, — сказал ты, Женька, и прижался ко мне так сильно, словно понимал…
— Ходят, Теодор, — назвала я тебя не твоим именем, Женя.
И ты посмотрел на меня внимательно. И мы пошли к причалу. И подошел старенький катер. И людей почти не было.
Мы стояли на корме. Женька, глупенький, ты боялся, что мне холодно…
Я попросила пива. Ты спустился в бар.
Помню пенный след от катера. Я смотрела на эту пену, как иногда смотрят на облака, принимающие самые причудливые формы. Причудливых форм не было. Были конкретные лица. Твое, Теодор. И тех шестерых, в чью жизнь я вошла, чтобы разрушить. Чтобы крушить. Ломать. Доставлять страдания. Все вместе, все шестеро, они образовали круг. Лида и Женя. Володенька и Любушка. Кузя и Муся. В середине этого круга я увидела себя. Поняла — мне уже некуда деваться. Вне этого круга был ты, невредимый и спокойный. Ты даже не смотрел в мою сторону.
А круг сужался.
И мне вдруг стало хорошо. Словно нашелся долгожданный и единственный выход… Из сужающегося круга.
Наверное, у меня еще был и другой выход. Может быть, стоило упасть прямо на палубу и кататься по ней. И чтобы ногти — в кровь… И, кто знает, может быть, я поднялась бы другой. И все еще можно было бы исправить…
Но круг сужался. Глаза шестерых смотрели. Ждали.
«Разрушительница»…
Напоследок я увидела свои собственные глаза… Они были черными-черными… Страшными…
И я решилась…
Каких-то несколько секунд…
Так не все ли равно чем я захлебнулась — собственной обидой, злостью на весь мир, страстью к тебе, Теодор, или горьковато-соленой пенящейся водой октябрьского холодного моря?
Мое тело не нашли…
Да, Женя, я лишила тебя возможности ухаживать за моей могилой…
***
Жора Устимович надеялся вернуться домой. Более того, он считал, что война продлится недолго. Многие так считали. И потому зарыл чеканку неглубоко. Завернув перед тем в плотную ткань.
Истлела ткань. И деревянная основа превратилась в ничто. Да и сама медная чеканка позеленела до уродства…
Ничего…
Вот она, сорок на двадцать пять…
И сквозь зелень…
— Это ее глаза! — говоришь ты, Женька. — Это Валерия! Посмотрите, разве не похожа?!
И ты, Женька, начинаешь вытирать свое сокровище платком. Платка явно мало. Ты срываешь с себя куртку…
— Евгений, вы сошли с ума, — призываешь ты, Теодор. И достаешь свой платок…
И вы уже возвращаетесь обратно, и ты, Женька, прижимаешь к себе нечто грязное, пролежавшее в земле более шестидесяти лет. И так ты счастлив, что даже мне, всего лишь кленовому листу, чуть завидно. Хотя так быть не должно. У отживающего свое листа не должно быть никаких эмоций. Скорее всего, я переживаю их за тебя, Теодор. А ты ведешь машину и думаешь. И я знаю, о чем…
Снова кухня. Как будто и не уходили, правда, мальчики?
Но как все изменилось.
Ты счастлив, Женька?..
Что ж ты так улыбаешься?.. Чему же так рад?..
— Она такая грязная, — чуть брезгливо говорит Теодор.
— Я почищу! Я узнаю, чем надо, чтобы лучше было… Я к специалистам обращусь… Теодор, а вот глаза… Посмотрите, они черные… Все зеленое, а глаза черные…
— Евгений, вы должны меня понять… Я, конечно, благодарен, что вы догадались, где находится чеканка… Но она издавна принадлежала нашей семье… Вы должны понять…
— Да, конечно. Конечно… Сколько вы хотите за нее? Я найду деньги… Я… Сколько вы хотите?
— Это очень старинная вещь… Она стоит дорого. Боюсь, что ваше материальное положение…
— У меня прекрасное материальное положение, — бессовестно врет Женя. И спрашивает еще раз: — Так сколько же?
— Тысяча долларов. Думаю, что она стоит дороже, но в знак того, что именно вы распутали эту загадку… Тысяча долларов.
— Конечно, — говорит Женя. — Я уезжаю. Я приеду завтра или послезавтра. Вы только ее не продавайте. Я привезу вам деньги. Хорошо?
Ты киваешь, Теодор. Ты отлично знаешь, что никто больше, кроме этого романтического полунормального типа, не заплатил бы тебе за кусок позеленевшей меди и десятой доли названной тобой суммы.
Он привезет тебе деньги уже завтра вечером. Он наодалживает требуемую сумму по частям. И в блокнотик запишет, сколько кому. Потому что трудно не запутаться в огромном количестве людей, принявших посильное участие в выкупе позеленевшего куска меди с изображением девушки с черными глазами.
Он достанет деньги, он будет потом отдавать их. Тоже частями. Как сможет. Он сможет, Теодор.
Он — сможет.
Женька, может быть ты и в самом деле счастлив?..
***
Вот, кажется, и все…
Мне пора, мальчики…
Все вышло хорошо, правда?
Каждый из вас получил, что хотел.
И моя исповедь закончена.
Исповедь? Но я не в храме. Вы — не пастыри.
Я не исповедывалась. Я всего лишь рассказала историю.
Мне хотелось поговорить с вами обоими. Разговор не состоялся. Люди не беседуют с листьями. Тем более — опавшими.
Значит, у меня получилось что-то вроде монолога?
Но вот снова зазвучала музыка Таривердиева…
Она заставила меня все вспомнить заново и еще раз прийти к выводу, что дуэтов у меня никогда не получалось…
С хором — и того хуже… Хор мне хотелось развалить, порушить…
Так что же у меня получилось? Что я делала со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра?
Исполняла соло?..
Соло… Без голоса… Под музыку Таривердиева…
|