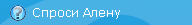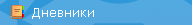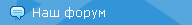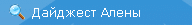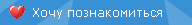Нерожденные дети
Луг был бескрайним, убегал за горизонт, слепил глаза яркой зеленью разнотравья. Травинки-травинищи, цветочки-цветочищи словно вышагивали, отталкивая друг друга, все вперед и вперед, как стайеры на финишной прямой. Они были странными, будто неживыми, ей казалось даже, что она слышит их «искусственный» шелест.
В этой зелени и пестроте она увидела очертания приближающихся фигурок, взявшихся за руки. Они словно плыли в этом зеленом «море». Прищурив по обычаю свои безочковые глаза, она каким-то седьмым чувством поняла, еще не вполне узнав их, что это они – ее нерожденные дети.
Вот старшенький, теперь ему было бы за тридцать, вот русая пушистая головенка единственной дочки, которую она ждала всю свою бабью жизнь, но так и не сумела выносить из-за страшенного токсикоза, слизнувшего, как корова языком, за два месяца двадцать килограммов ее и без того не слишком значительного по тем временам веса.
А третий совсем карапуз, заплетает ножонки, поспешая за старшими, и кажется, что он уже и ног под собой не чует, летит по воздуху.
Что это они, она поняла сразу. Ее что-то толкнуло в сердце. Она не спутала бы их никогда и ни с кем, узнавая в них себя, мужа.
Своего второго сына, родившегося на излете ее женских сил, она увидела впервые только на четырнадцатый день после его рождения, выкарабкавшись после операции вопреки всем плохим прогнозам врачей.
Медсестра, остановившая каталку с детьми у двери ее палаты-одиночки, решила подшутить, сказав: «Ну, где твой-то? Выбирай. Узнаешь, отдам. А нет, так увезу».
Синяя от слабости, едва только начавшая вставать, она, всерьез испугавшись и боясь сама за себя, что не узнает своего сердцем, не примет, доковыляла до двери, пытаясь унять отчаянно бьющееся сердце.
Их было больше десятка, все одинаковые куколки-кокончики. Но это только на чужой, нематеринский взгляд.
Своего, еще не виденного ею, она узнала сразу.
Она узнала бы его из тысячи.
Облегченно ворохнулось сердце: «Мой, мой, мой, моя кровиночка».
Она перевела дух, обессиленно припала к двери.
- Все, теперь все нормально, он здесь, теперь можно жить.
Изнуряющая тревога за него, не оставлявшая ее даже в горячечном послеоперационном бреду, стала таять, как туман после восхода солнца.
Вот и этих она узнала так же, не глазами, а сердцем, которое не может ошибаться.
Сначала ей казалось, что они идут к ней, но потом она увидела, что они все больше уходят в сторону, ведомые старшим. «Обиделись», - мелькнула в ее голове запоздалая мысль.
Они поженились в мартовскую непогодь и в первое время радовались, как два щенка, барахтаясь на постели без устали. Она заканчивала институт. Преддипломная практика, экзамены, диплом не оставляли времени ни на какие раздумья. В суете будней она то ли не заметила, то ли не придала значения отсутствию ежемесячных женских недомоганий. В июне друзья уговорили их сплавляться, заманили расписываемым в красках великолепием медленно проплывающих берегов.
Ненасытные в желании обладать друг другом, они то и дело заплывали в своей персональной лодке в какие-то заводи, укромные уголочки, чтобы без ненужных свидетелей вдоволь нацеловаться-намиловаться в дурманящей лучше всякой конопли сочной июньской траве.
Река, раздваивающаяся на два рукава, «уплыла» их совсем не туда, куда свернули другие лодки с едой в них, теплыми вещами, мячами, гитарами и всяким другим скарбом, прихватываемым с собой туристами-чайниками.
До глубокой ночи они плыли в полном одиночестве и безмолвии, вбирая, впитывая в себя колдовскую красоту мест, по которым явно не ступала нога человека.
Мокрая тяжелющая лодка, три палатки, ненужные котелки и ведра и бог весть что еще, что им пришлось тащить до города, так и не встретившись с другими «сплавщиками», сделали свое коварное и подлое дело.
Все началось так внезапно, она даже не успела осознать, что произошло.
- Что ж ты, голубушка, не уберегла первенца-то? - сердобольно сетовала грузная гинекологиня, неожиданно проворно работая своим страшным инструментом у нее между ног.
- Дай бог, обойдется. Еще родишь. Да не плачь ты так, не рви душу, - успокаивала она ее, закусившую губы то ли от боли, рвущей ее на части, то ли от досады, обиды и злости на себя, дуру ненормальную, не сообразившую сразу, что была беременна, что не убереглась.
Так она и потеряла своего старшенького, Марка, Марковку, который сейчас из-за обиды на нее уводит малышей, крепко держа их за руки.
Она смахнула выкатившуюся слезинку, мешавшую ей видеть их, растерла глаза, пытаясь сфокусировать взгляд.
Далеко, как же они далеко!
Ей хотелось закричать:
- Погодите, подождите меня, - но голоса не было, она только бессильно шевелила губами.
- Ну задержитесь, ну хоть еще чуть-чуть. Дайте я посмотрю на вас, мои вы хорошие,- вышептывали ее губы.
- А ты – то какой хорошенький, карапузеныш мой! На бабушку похож, мою маму. Как же я тебя-то не уберегла?
В жизни у них тогда пошла какая-то беспросветная черная полоса. Умерла мама, так и не став, не успев стать бабушкой, потом ее операции, зачастившие словно по какому-то роковому графику, его странная болезнь, якобы не опознаваемая врачами – последствия армейских буден на атомной подлодке. Беременность тогда оказалась не просто не планируемой, а даже невозможной, абсурдной. Это потом она поняла, что рожать надо было вопреки всему. А тогда – только вошедшие в обиход платные аборты, лекция до и после, кофе с печеньем в постель. И пустота. Ощущение, что ты выхолощена, как кабанчик на откорм. Бунтует твое женское естество, матка в тонусе, ан уже все – не вернешь, не воротишь.
Они уходят, уходят. Их относит от нее какой-то неведомой силой. Она закусила руку, не чувствуя этой нужной для нее спасительной боли, позволившей бы ей очнуться.
- Еще хоть чуть-чуть побудьте со мной. Простите меня. Про…
Она резко дернулась, пытаясь осознать, где сон, где явь, смахнула слезинку, подружку первой, лихорадочно торопясь перевернула подушку, чтобы опять уплыть в тот сон, где они, ее нерожденные дети.
|