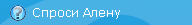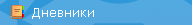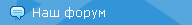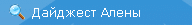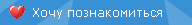Ничего, ничего не говорите, ничего не говорите мне сейчас. Не надо слов, не надо этих грохочущих, скрежещущих, заскорузлых глаголов и уничижительных, фамильярных и бескомпромиссных местоимений. Подождите лет сорок. В 2047, а то и в 48 году выскажите мне все, что накипело, все, что ломает вашу душу на крошечные островки гнева и немилосердия.
2048 год – так и вижу себя. Комната. Темная комната, полная тьмы и загадочности. Портрет, огромный портрет революционера на пол стены. Коврик, на коврике собака. Мягкая, пушистая, славная. Пекинес. Тарас и Бульба одновременно, но не вместе. Либо Тарас, Тараска, Тара, либо Бульба, Буля, Буль. Спит собака и во сне лапами перебирает. Снится что-то псу. Может миска, может гусли. Может кипяток. 2048 год – какие гусли, почему? А почему, собственно, нет? Резонно.
Возле коврика и Бульбы кресло старое, еще с прошлого века, качается. Кресло-качалка, сюда – туда, туда – сюда. Скрип. Стоп. Рука. В руке дымящий огрызок сигары. Вот он медленно проплывает в воздухе, оказывается возле дряблого, бородатого пышной сединой прокуренных волос, лица уже более чем пожилого человека. Затяжка. Дым обволакивает пространство, расплывается по комнате, растворяется. Снова вдох, дым… Дрожащая рука опускается на ручку кресла, челюсть совершает неуклюжее, непродолжительное движение, возвращается в прежнее положение. Свободной рукой старичок поправляет плед, укрывающий его сушенные, полысевшие ноги. На ногах пушистые коричневые тапочки, на левом дырка, виден ноготь. Вслед за пледом, рука тянется ко псу с очевидным желанием погладить. Раз, и старичок уже валяется на полу, беспомощно извиваясь туловищем. Его змеиные движения приводят к успешному результату: он вскарабкивается на кресло, качается, нервно передвигая пальцами. Сигара тлеет на полу. Пес вздрагивает, подпрыгивает, тявкает…
* * *
- Ах – мА-то-ва??? Анна? В печку ее, классика не горит, дайте мне….
Треуголка свисает набок, старик спит, со рта стекает белая слюна. Видение:
Одинокий заброшенный парк. Лавочка. Старость, старость, старость. С шарканьем и вздохами ото всюду появляются толпы пожилых людей. Тысячи, десятки тысяч, миллионы, бесконечным потоком входят они в парк и выстраиваются в длинную, как китайская стена, очередь. Рванье, худоба, голод, хладнокровие, надменность,, эгоизм, робость, горечь, унижение – все это уравнивается и складывается в общий рисунок. Разговоры о космическом одиночестве. Галдеж не останавливается ни на секунду, и постоянно со всех сторон раздаются стоны. Захудалая старушонка в коричневом плаще (несмотря на сорокаградусную жару), отделяется от толпы, бормочет о залитых кровью младенцах и курящих анашу дворниках, которые украли у нее из тарелки горох, оглядывается на всех, и первой возносится ввысь. Вслед за ее примером, в небеса взлетают остальные старики, размахивая на лету костылями, улюлюкая и восклицая «о, Господи».
* * *
Проснувшись, от собственного храпа, старик долго и пристально смотрит на портрет революционера:
- На кол посажу всех, етить его корень! Я прозаик и имя мне Соломон! Кхе, кхе, чего уставился, недоносок?? Холуй, недомерок, пустобрех! Ты мне завидуешь, обзавидуйся. Тараска взять его, фас. Фас, фас. Да чтоб ты хезал только кровью, геморроидник. Что ты в жизни-то прочел великого? Ах-ма-то-ва – кто такова, бестолочь, на кол, на кол, на кол. В моей голове сидело 42 романа, в гробу я видел всю эту вашу чистоту совести, ума и порядка. Неудачник, революцию придумали неудачники, мир неудачников, клопов, лицемеров, фанатиков, насекомых. А я теперь ни строчки, никому, предатели, наркоманы, готов поспорить, что ты наделал бы в штаны только от одного моего взгляда, ты бросил бы свои революции и пошел батрачить, а я купил себе удочку и рыбачил, рыбок не жалко их много, они плавают, плавают, плавают, а я ловил и писал романы, ловил и писал, пока не закончились черви. А потом смотрю, а мир уже синий, и всюду черви, черви, черви, проклятые черви, толстозадые, грязные, противные, ужасные. Рому мне, кхе, кхе, Рооооому!
Старик задыхается, кряхтит, падает, революционер ехидно смотрит с портрета. Буль подходит к хозяину, лижет руку, отходит, ложится.
Говорите, говорите, говорите мне все, но тогда, тогда когда буду старый, никому не нужный, когда окончательно свихнусь, когда стану сам себе противным и превращусь в небольшой комок никому не страшной агрессии. Жду ваших слов….
12. 06. 2007 г.
ЗЫ: Спасибо Мураками
|