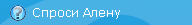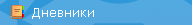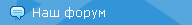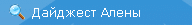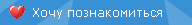Остров
Жуковой. О.
Знаешь, возможно, все не так. Может быть, это их никого нет или они в аквариуме, большом аквариуме, где много-много воды, водоросли и мир сужается в миллионы раз. Его видно лишь через стекло, а стекло – это не лучший гарант достоверности. Возможно, это они умерли, как духовно, так и физически. А может быть, их и не существовало никогда. Или нас. Может, просто ветер донес откуда-то 4 ноты и спрятался в твои волосы. Ты непременно должна улыбнуться! И это не просто так, это необходимо нам обоим…
Нет, ничего не было. Кто-то придумал, неся под мышкой газету вчерашних новостей, отпихнув носком ботинка кусок черной грязи и закурив медленно и глубоко втягивая в себя никотиновое облако, понял, что так не нужно и бросил.
Бросил, но было уже поздно. Если что-нибудь создаешь, позже оно живет уже без тебя, на тебя же возлагаются функции создателя, и борись с подобной оказией или не борись – придется смириться…
Впрочем, я немного заговорился… К чему это все?
Спасибо тебе! Спасибо за рождение этого! За тяжесть сознания, за романтику ночи, когда небо трескалось по швам от переизбытка чувств, когда луна, вторя ее позывам, выбрасывала на землю миллиарды молекул, равных по искренности и открытости человеческому сердцу….. Если бы не было тебя, я никогда бы на это не решился, я многого не смог бы понять, не осилил бы. Это - о тебе, это - для тебя, это, надеюсь, найдет отражение в твоем неустанно движущемся сознании, это, возможно, твоя тень. Я - твоя тень. Просто выключи свет, и я исчезну. Растворюсь в комнате твоего одиночества, твоего взгляда из-под растекающихся тушью от слез ресниц, обломками твоих вчерашних снов, островком твоей блуждающей по миру памяти…..
Спасибо тебе!
И все-таки кому-то это было нужно, кто-то ведь сочинял всю эту бессмыслицу?...
30. 09. 2008 г.
Глава первая «Крылья» (Наутилус Помпилиус -1995 г)
Кто же, кто еще, кроме тебя.
Кто же, кто еще, если не ты…
(В.Бутусов - И.Кормильцев)
.Темно и довольно прохладно. С моря дует ветер. Ты говоришь, что я виноват, и это мое наказание, не сводя с меня глаз, ты говоришь, что отныне так будет всегда, и даже, если я исправлюсь, ветер не стихнет ни на грамм. Он будет продувать меня до мозга костей, чтобы я никогда не забывал о своих проступках, не достойных какого-либо прощения.
Мне не хочется спорить с тобой. Не хочется, и я не смогу этого сделать. Мои мысли гораздо выше этого дня, я слишком сильно люблю тебя, чтобы вытягивать из себя громкие и твердые слова несогласия. Ты хохочешь мне прямо в лицо и называешь слабым. Я в миллионный раз слышу подобное высказывание. Мы оба знаем, что это совершенно не так, но ты будешь продолжать проговаривать эти сладкие для тебя буквы. Сладкие, потому что моя слабость делает твою слабость сильнее моей. Тебе нужен более сильный? Найди!.
Найди, но это не так-то просто. Мы на острове, откуда не выбраться, где кроме моря, песка, хижины и пары пальм, вряд ли можно отыскать еще что-нибудь.
Я не помню когда, я не помню зачем, но мы все же оказались на этом чертовом острове, следовательно – все не спроста. И мы вынуждены с этим мириться. Вынуждены ли? Как знать, может быть, это было наше осознанное решение?
Диалог с тобой окончен, но лишь на те ничтожные 4 минуты 22 с половиной секунды, которые я буду пялиться в окно, наблюдая за тем, как по небу перекатываются звезды, а неуемный ветер играет листьями пальм, касаясь их своим легким и прохладным дыханием. Одна звезда теряет равновесие и срывается с покатого небосклона, она летит на землю, падает прямо в песок. Утром нужно будет ее отыскать и положить в море, в воде ей будет лучше. Море подарит ей вторую жизнь, в земле она обретет покой. Пока же она лежит на песке, и я думаю о ней. Я не вижу ее, но знаю, что еще совсем недавно рядом с тем местом, куда она неловко шлепнулась у меня на глазах, а может быть, и на самом том – остались следы твоих босых ног, которыми ты шла, слегка пританцовывая, которые теперь (по-прежнему босые) немного дрожат от скользящего по ним сквозняка.
Я люблю твои ступни. В тебе я люблю все, но больше всего я люблю Тебя. Ту, которая – Ты, а не которая – Всем.
Волны соревнуются в силе. Что с них возьмешь? Они еще молодые заносчивые, и не нашумелись, и не наигрались, не натопились. Та, что выше, уйдет первой, самая низкая протянет дольше всех. Таков закон природы, противоположный естественному отбору. Волны толкаются, шумят, резвятся, и так будет до утра. Впрочем, можно закрыть глаза и ничего этого не видеть, иногда это даже полезно – с сознанием можно бороться.
Раздается крик чайки. Она голодна и требует пищи. Есть – это потребность живого. Все живое постоянно чего-нибудь требует.
У меня остается 10 секунд. Иногда за такой отрезок времени можно разрушить все, можно что-нибудь создать, что-нибудь великое, можно пробежать стометровку или пройти 10 метров…. А можно забыть обо всем, помолчать и наблюдать за тем, как птица летит по небу, как муравей тащит домой обломок горячей спички, как солнце врезается в горизонт, как распускаются лепестки роз, как улыбнулся во сне твой любимый человек. Мои десять секунд ушли на воспоминания. Я пытался вспомнить хоть одну строчку из Роберта Бернса. Напрасно. Мозг не оставил и уголка для памяти о прошлой жизни. Даже Омар Хайям оказался чем-то не досягаемым для меня. Хотя всего год назад я мог сутками напролет говорить цитатами из его творчества….. Поэзия. Суть поэзии в том, чтобы вырвать из прозы все самое нужное и, не растрачиваясь на подробности, резать из слов изумрудные образы жизни. Кому нужны эти предлоги, междометья, наречия? Образ. Увидел – и все сразу стало понятно. Чем филиграней образ – тем меньше слов его создают.
Девять, десять. Я отвожу взгляд от окна и поворачиваюсь к тебе.
Ты сидишь, поджав под себя ногу, и слушаешь музыку. У тебя постоянно что-нибудь играет в наушниках, даже когда мы ссоримся, разговариваем, дуемся друг на друга – бесконечное звучание динамиков. Сегодня это Наутилус. Песня «Крылья» из одноименного альбома:
Ты снимаешь вечернее платье,
Стоя лицом к стене,
И я вижу свежие шрамы
На гладкой как бархат спине.
Мне хочется плакать от боли
Или забыться во сне.
Где твои крылья, которые
Так нравились мне?
Ты молчишь, но в твоем молчании кроется больше смысла миллиарда моих монотонных слов. Готов поклясться, что это про тебя, все песни, которые ты когда-либо слушала, так или иначе рассказывают о тебе. И я, действительно, вижу большие красные полоски шрамов, разгрызших твою девственно нежную и гладкую спину. Их рисунок отчетливо говорит о том, что когда-то у тебя были крылья. Но их срезали. Кто? Может быть, ты сама. Да, наверняка так и было.
Ты внимательно смотришь на меня и не сразу роняешь фразу о том, что мне давно пора побриться. Сбрить с себя дикарство и неопрятность. Я отвечаю, что все равно страшный, а так хоть половина лица скрыта. Ты поднимаешь глаза к потолку и вздыхаешь, ничего не ответив.
«Тупо» - вот что обозначает твое молчание.
Все, что относительно меня – все марширует под этим лаконичным и хлестким лозунгом.
- Мне холодно. И грустно. – Произносишь ты.
- Принести плед?
- Не хочу.
- Может сварить кофе?
- Не хочу.
- Водочки?
- Дурак.
- ???
- Не хочу.
- Что хочешь?
- Не знаю. Мне холодно…
И отворачиваешься, и плачешь. Я закрываю окно. Иду варить кофе. А в наушниках по-прежнему Бутусов со своей командой. Не дойдя до кухни, я останавливаюсь.
- Что с крыльями?
- Ничего. Их больше нет.
- Больно?
- Да.
- Зачем?
Мой вопрос разбивается о гранит твоего молчания. Лучше об этом не спрашивать. Сейчас лучше вообще ни о чем тебя не спрашивать.
«А поезд на небо уходит все дальше,
По лунной дороге уносится прочь.
А поезд на небо увозит отсюда
Всех тех, кому можно хоть как-то помочь»
Кофе горчит, но пить вполне можно. Я не лучший повар и уж тем более кофеварщик. Но я стараюсь, и раз за разом кофе выходит все лучше и лучше. Так и должно быть! С этой новостью, а также огромной чашкой я спешу к тебе. Ты держишь чашку обеими руками, делаешь небольшой глоток. Твое лицо начинает кривиться, чашка стремительно ставится на стол. Больше к ней ты не притронешься. Это я знаю точно. Допивать буду сам, поэтому в чашку падают 2 кусочка до отвращения белого сахара, далее глоток. Мой глоток большой и с едва слышимым прихлебыванием. Нет, мне определенно, нужно учиться варить кофе.
Твоя рука скользит по краю подушки. Медленно, чарующе. Когда ты грустишь, все, что связано с тобой, мне кажется магическим, чертовски привлекательным, трогательным. Твои вздохи, взгляды, позы, слова, жесты, задумчивость, скандалы….
Ты смотришь мимо меня, ты делаешь музыку тише и равнодушно произносишь:
- Может, побить посуду? Перебить все к чертовой матери, закатить истерику, устроить скандал?
Предложение не воодушевляет меня, впрочем, и тебя тоже. Я пожимаю плечами, больше всего сейчас мне хочется прикоснуться к тебе, нежно обнять, поцеловать так, чтобы за ушами трещало, положить тебя на кровать, а дальше…. Только я этого не сделаю. Не сегодня, не сейчас. Ты слишком депрессивна, и я не садист.
Ты вопросительно смотришь на меня. Неужели что-то забыл, что-нибудь сделал не так? Ах, да, я отвлекся. Я вновь пожимаю плечами и осторожно отвечаю:
- А смысл?
Я умею вырубать на корню любую инициативу. Ту же способность можно с легкостью записать и в твой актив. Однажды я купил себе флейту. Я долго мечтал о том, что когда-нибудь у меня появится флейта, я научусь на ней играть и вечерами буду тебе исполнять редкие по красоте романсы. Я радовался, как ребенок, когда впервые взял в руки этот продолговатый железный инструмент, улыбка не сползала с моего лица, захотелось дунуть, проверить звучание, сыграть что-нибудь великое. И я опробовал свою флейту. Конечно, ничего подобного музыкальной фразе я воспроизвести не смог. Так и младенец сперва начинает издавать отдельные звуки, гласные, которые лишь спустя несколько месяцев складываются в слоги, затем в слова. Я и был таким младенцем. Мои руки дрожали от переполнявших меня чувств, казалось, что это самый дорогой в мире брильянт, и я являюсь единственным его обладателем, и от этого на душе становилось так легко, в то же время, я понимал, какая это ответственность - обладать самой дорогой в мире вещью - одно неловкое движение могло его просто-напросто разрушить, поэтому я бережно держал в руках флейту и даже погладил ее. После я снова попробовал играть. И на этот раз ничего не вышло.
Ты стояла рядом и с интересом наблюдала за моими неловкими движениями. Я знал, что ты не веришь в мои возможности, но рассчитывал на твою поддержку. Вместо этого на твоем лице появилось крайне скептическое выражение, и после второй неудачной попытки сыграть, ты произнесла вслух, не обращаясь ко мне:
- Омерзительно. Проще барана научить вязать….
Я не дослушал. Я убрал флейту в чехол и больше уже не расчехлял. Ты обняла меня и сказала, что иногда я принимаю разумные решения, жаль, что это происходит крайне редко.
Весь следующий день я провел у моря, я построил песочный замок, и он вышел, на удивление, красив. Я строил его 5 или 6 часов, но был настолько погружен работой, что не заметил, как пролетело время. Это был замок моей мечты. В таком, непременно, должна жить принцесса, красота которой равняется, как минимум, двум закатным солнцам, за ее сердце борются доблестные рыцари, а сама она выходит на балкон, дожидаясь того самого, который сможет одолеть всех соперников на ежегодном турнире, а ранее он убьет дракона, защитит бедных и обездоленных ремесленников, прославит ее славное имя. И такой рыцарь появится перед ее балконом, и они поженятся, у них родится множество детишек, и они будут счастливы. И возможно, что этим рыцарем окажусь я, но тут уж гадать не приходится – все зависит от доблести, умения и везения.
Я сидел и выдумывал эту историю, глядя на замок, сотворенный моими руками и сердцем. Если делать что-либо без души – результат так же будет пуст и бездушен. Мои мысли блуждали по закоулкам вселенной и не имели конкретных очертаний. Ты подошла незаметно, ты закрыла руками мои глаза, а я почему-то не сразу догадался, что это ты. Мы не сказали тогда друг другу ни слова. Ты села рядом, увидела мой замок, знаю наверняка, что он и тебе пришелся по душе. Мы смотрели, как волны вели непрерывную борьбу за первенство. Они набегали, ударялись о берег, распадались, и собирались вновь, чтобы еще и еще биться о берег, тонуть в водной пучине, возрождаться….
Солнце медленно тонуло в болоте горизонта, окрасив небо багряно-сиреневыми цветами. Все же нам нечеловечески повезло – оказаться здесь….
К твоим ступням прилипло несколько песчинок, я разглядывал их, и думал, что из таких вот песчинок и складывается жизнь. Жизнь – это песочные часы: счастье, любовь, неудачи, победы, обиды, болезни, эйфория. Все они перетекают из одной половинки в другую, пока она окончательно не заполнится, а затем Господь переворачивает часы – и все повторяется, только уже в другой последовательности, поскольку песчинки уже перемешались. Говорят, что старики и дети очень похожи, только одни думают о том, что будет, а другие могут лишь вздыхать о том, что было….
Наконец, ты берешь меня за руку.
- Идем домой, - говоришь ты, - я ужин приготовила.
- Я еще немного посижу. Совсем немножечко. Мне надо.
- Хм…. – Отвечаешь ты, встаешь, идешь к нашему шалашу-дому-дворцу.
У тебя кошачья походка. И сама ты напоминаешь кошку. У тебя даже татуировка в виде черной кошки на пояснице. Приподнимаешь блузку или опускаешь юбку, и непременно натыкаешься на нее. Так сложилось, что я не люблю кошачьих. С самого детства. Но тебя…..
Ты оставляешь ровные следы. Завтрашний ветер заметет их, а вместе с ними и нашу недавнюю ссору. Я рушу замок. Рушу сам, иначе это сделает море. Иллюзии проще развеивать самим, больнее, когда это делают другие.
Я не помню когда и как мы очутились здесь. Чем чаще я думаю об этом, тем мне все реальнее и реальнее кажется мысль, что мы всегда тут были…. Я знаю каждый уголок этого острова, каждый камень, каждую трещину, но тебя так и не смог изучить и понять. Мы познакомились еще в прошлой жизни – по крайней мере я так думаю. Оба были несчастны, оба во многом разочаровались, нуждались в поддержке, а мир так устроен, что подобное притягивает подобное, и еще – что желаешь, то и получишь, чего достоин, того не упустишь. Словом мы были притянуты друг к другу. Тем ни менее, мы никогда не были вместе, мы были рядом, но каждый сам по себе. Мы не были одним целом, как это принято считать, но мы любили друг друга. Любили и тем самым делали больно. Ты – мне, я – тебе. Если бы мы были вместе, все было бы иначе, и, возможно, я бы ушел….
Нужно как-то разъяснить эту ситуацию, но слова слишком мелочны и не надежны….
Ты никогда не говорила «Мы». Либо «я», либо «ты». «Гуляю» - хотя мы гуляли вместе; «смотрю кино» - мы смотрели его оба; «прекрати» - хотя тебе нравились мои дурачества, «ты ненормальный» - хотя мы оба немного сдвинуты…. Ты боролась, ты не хотела терять независимость. Я же постоянно твердил: «у нас все хорошо», «мы в порядке», « у нас много общего», «нам нужно идти». Чем больше ты пыталась отдалиться, тем неминуемо ближе меня тянуло к тебе. Мы не говорили о свадьбе, не строили планы на будущее. Нам было хорошо здесь и сейчас, разве что-нибудь может быть главнее этого? Ведь нам было хорошо? Я искренне на это надеюсь.
Правда иногда я все же задумывался о том, что когда-нибудь это все может прекратиться, ты устанешь от меня или я полюблю кого-нибудь другого. Русалку. Почему нет? Я видел одну русалку, она лежала на песке и загорала. Нечеловечески красивая. Увидела меня, захохотала и, махнув хвостом на прощание, скрылась в водных просторах. В такую с легкостью можно влюбиться. И вот иногда подобные мысли проникали в мой неустойчивый разум. Ты же говорила, что к этому нужно проще относиться, нужно ценить то, что имеешь и никогда не жалеть о том, что было. Ты всегда именно так и поступала.
И что над нами километpы воды,
И что над нами бьют хвостами киты,
И кислоpода не хватит на двоих.
Я лежу в темноте...
Мои размышления прерывает голос Бутусова. Мы лежим на диване. Мои глаза закрыты, я открываю их. Я хочу тебя поцеловать, но ты отворачиваешься. Должен заметить, это невероятно тяжело – лежать рядом с тобой и не иметь возможности сблизиться с тобой физически. Мне необходимо тебя обнять, я хочу тебя. Но ты неприступна. Ты говоришь, что я совершенно тебя не понимаю и в данную минуту далек от тебя, как никогда. Мучительно больно это слышать и понимать. Я слишком привязан к тебе, но сейчас ты не моя. Тебе плевать, что мое тело требует любви, твои душевные муки масштабнее, их утопить куда сложнее. Стройными пальцами ты вытягиваешь из пачки сигарету. Щелчок зажигалки, затяжка. Когда-то давно ты придумала курить в вытяжку. Так не остается запаха, и мама не узнает, что ты курила. Когда-то мы были детьми, и нужно было скрывать свои поступки, мысли, привычки…. Все это уже в прошлом, но до сих пор мы стараемся что-то скрыть, сделать в тайне от других, будто кто-то, узнав о том, что мы ругаемся матом, схватит нас за руку, отругает, поставит в угол. Над людьми всегда кто-нибудь стоит выше, но мы же не марионетки. Или я ошибаюсь?
Дым медленно растекается по комнате. В никотиновой дымке ты еще прекрасней. Ты куришь тонкие дамские сигареты, я терпеть их не могу, но этот запах мне приятен. Яблочный вкус, еще люблю запах «Кэптен Блэйк», но их ты не куришь, к счастью.
Я начинаю вслушиваться в текст. «Дыхание» - одна из моих любимых песен из творчества Бутусова.
Почему-то мне представляется старый заброшенный дом. Такие обычно стоят на каком-нибудь холме, вдали от остальных поселений. Огромные ржавые ворота закрыты. Стены покрыты густым плющом. Чуть дальше лениво плещется море. Неожиданно волны начинают стремительно набирать высоту. Они все сильнее бьются о берег, словно пытаются его расколоть. Каждая волна уже напоминает огромную водную гору, такая и камня на камне от берега не оставит, если начнет бесноваться. Спустя мгновение обрыв начинает рушиться, его обломки падают прямо в воду, она неминуемо растет и добирается уже до холма. И вот уже дом стоит по крышу в воде. В небе тревожно кричат птицы, они хаотично кружат, напоминая небесный муравейник.
Из воды появляется гигантская голова кашалота, он бьет хвостом, и от его удара расходятся круги. Голова прячется обратно.
Ты лежишь на двери, она держится на плову. Я плыву рядом и держусь за дверь руками. Твои глаза закрыты, ты даже не подозреваешь о сложившемся положении. Я начинаю ощущать холод. Моих сил ненадолго хватит. А птицы все громче и громче кричат от страха. Уже все пространство пропитано их паническими криками. Еще немного и мое тело охватят судороги. Я не хочу этого, поэтому нежно целую тебя в губы, отпускаю руки и медленно иду ко дну. Дальше темно. Тело ничего не чувствует. Пустота.
Ты потягиваешься и открываешь глаза. Утро. Ты лежишь на кровати, за окном безмятежно плещется море. Появляется голова кашалота, удар хвостом. По морю идут круги. Тают.
Твоя сигарета давно потушена. Ты стоишь перед окном и смотришь в ночь. Я вижу шрамы, заменившие пушистые черные крылья, ниже выскользнула голова кошки. Твоя тень, такая же стройная и статная, как и ты, растянулась по полу. Она похожа на мой разум, который так же далек и холоден. Когда-то давным-давно, когда мы были еще едва знакомы, я спросил у тебя, в какой песне есть я? И ты, не задумываясь, ответила:
Если ты хочешь любить меня, полюби и мою тень.
Открой для нее свою дверь, впусти ее в дом.
Тонкая длинная черная тварь прилипла к моим ногам.
Она ненавидит свет, но без света ее нет.
И я поверил тебе, а ты поверила в меня. И что самое удивительное – я, действительно, сперва полюбил твою тень, а после – тебя. Теперь, когда я вижу твою тень, во мне что-то переворачивается, будто я знаю ее лучше самого себя, словно она всегда рядом и стала частью меня. Она и, вправду, тварь, а ты белая и пушистая. Ах да, твои крылья… Теперь уже не пушистая. Я долго ломал голову над тем, почему она черная, и как же сделать ее белой. Но однажды мои терзания кончились сами собой. Я видел твою тень, и она была прозрачной. Все, что нужно было сделать, это полюбить ее…
Говорят, что любовь меняет людей. Это, действительно, так.
Кто же, кто еще, кроме тебя.
Кто же, кто еще, если не ты…
Черт возьми, мне это так льстило. Потому что я принимал эти слова на свой счет. Только потом я понял, что они относятся к тебе. Ты была нужна мне, ты даже представить себе не можешь, как ты была мне нужна…..
Но однажды эту песню сменила другая, за ней третья, потом еще одна. Ты постоянно твердила, что нужно меняться, что ты не такая, какой я вижу тебя, что я тебя придумал и не хочу видеть реальности. Тогда-то я и приделал тебе эти дурацкие крылья, чтобы убедить тебя в обратном. Как только они оказались у тебя за спиной, то окрасились в черный цвет, и увеличились минимум в два раза. Ты улыбнулась и сказала, что теперь-то уж точно мне придется не сладко. Всю следующую ночь тебя не было дома. Вскоре твои полеты стали регулярными, я смирился.
Что в тебе особенного? Я не смогу ответить на этот вопрос. Но знаю точно, что где бы ты не находилась, меня будет к тебе влечь, какая-то неведомая мне сила. Может быть, это колдовство?
Я называл тебя Настасьей Филипповной. В наших отношениях многое было связано с книгами и фильмами. «Даун Хаус» мы смотрели десятками раз по отдельности, вместе – единожды. Назвав тебя Настасьей Филипповной, я приписывал себе роль князя Мышкина. Я и был тем идиотом, готовым тебя спасти, только ты не нуждалась в спасении. Если тонут два человека, одному необходимо оттолкнуть второго, иначе оба неминуемо пойдут ко дну. Но ты была мне нужна. Нужна, как растениям нужен солнечный свет, как ветру нужен простор, как звездам нужна луна, а людям небо. Ты была моим небом, моим маяком, разгрызавшим тьму души и сознания. Я искал в тебе спасение. Глупо, конечно, но это было так.
Себя я называл Мастером. Булгаков великий человек и писатель отменный. Я писал роман, а ты, как Маргарита, готовилась к ночным полетам. Ты не любила моих творений, ты считала меня скверным писакой и не скрывала этого. Я же не мог уже обойтись без словотворчества, все последующие произведения были адресованы только одному человеку – тебе. Я писал песни, сочинял стихи, вымучивал роман, и все посвящал тебе. Но писал я не про Иешуа и Понтия Пилата, все было намного приземленнее.
Мы разговаривали цитатами, мы жили в не нами созданном мире, но это не мешало нам считать его нашим. Мы умели обходиться без слов. Ты лежала на моих коленях, я гладил твои волосы, из колонок доносилась музыка, ночь блуждала по закоулкам и перекресткам вселенной. Мы не задавали друг другу вопросов. Нам было хорошо. Я сидел, любовался тобой, и мне казалось, что утро не наступит никогда, что время замедлит свой бег, пока окончательно не остановится, и в мире только и будет, что ты, я и музыка. Но утро наступало и каждый раз неожиданно. И я уходил, чтобы вновь вернуться. Я не мог надышаться тобой, но ты была, как самый сильный наркотик, - полезна только в малых количествах, иначе – смерть. Мы не могли друг другу надоесть, а вот привязаться….
Кто я? Человек на луне.
Человек на луне устал быть чужим лицом,
Улыбаться по воле хозяйки луны,
По ночам играть с алмазным обручальным кольцом,
Видеть под утро печальные лунные сны.
На луне моего одиночества нет ничего. Сорок четыре миллиона кратеров и тишина. Я лично пересчитывал их, залезал вовнутрь, думал там, что-нибудь есть, искал. Напрасно. Внутри кратеров – пустота, да и самих кратеров не существует. Сплошные макеты.
Я тот, кто в минуты слабости и боли молил Бога о тебе, искал знакомства с тобой, запивая прошлогодние обиды остатками вчерашнего алкоголя. Звезды раскладываются подобно калейдоскопу. Судьба сжалилась надо мной.
И вот ты отходишь от окна. Твоя тень растекается по полу и превращается в ветвистое высокое дерево. Красная луна светит одиноким миллионноваттным фонарем.
- Ты забыл какой сегодня день. – Говоришь ты.
- Какой? – Удивляюсь я.
- Сегодня сто лет нашего знакомства.
И правда, такое ощущение, что мы знакомы не меньше века. Льдина растаяла, можно продолжать разговор.
- Что ты сделала с крыльями?
- Разве не видно?
- Видно. Зачем ты их отрезала? – Мое лицо приобретает строгий вид. Такое выражение не идет мне. Выгляжу глупо, как бегемот в ракете.
- Они мне не нужны.
- А раньше?
- И раньше не нужны были. Это ты придумал. Я их выбросила. Хочешь, найди, подаришь кому-нибудь.
- Мне никто не нужен, кроме тебя.
Ты ухмыляешься:
- Какой же ты глупый…
- Глупее тебя???
Ты ничего не отвечаешь. На бумаге твой ответ выглядел бы в виде многоточия. Я пытаюсь неловко улыбнуться, ты проходишь мимо. Спать сегодня мы будем на разных кроватях…..
Ты говоришь, что не хочешь быть
Hикому никогда рабой.
Я говорю, значит, будет рабом
Тот, кто будет с тобой.
Стоит ли спорить с тобою всю ночь
И не спать до утра?
Может быть, я не прав,
Может быть, ты права….
Спасибо Вячеславу Бутусову и группе «Наутилус Помпилиус»….
Глава вторая «Полонез» (Чиж 1996 г.)
Мы напишем стихи о том, как нам хорошо с тобой,
А потом ты научишь меня танцевать полонез - и мы взлетим!
Чиж
О Чиже мы могли разговаривать вечно. Я ни капли не преувеличиваю. Если музыка способна сближать людей, то Чиграков сделал это на сто процентов. Ни ты, ни я не были хиппи, Чиж дарил нам ощущения свободы, дух лихих и бесбашенных 70-х, когда было живо понятие «Андеграунд», когда гопники звались «Люберами», поскольку многие из них жили в подмосковном городе Люберцы, когда гоняли за длинные волосы, именуемые «хаиром», и бесконечные сережки в ушах, когда провести ночь в вытрезвителе или «Обезьяннике» считалось нормальным, когда, в конце концов, мир был огромным, как талант Оззи Озборна, и хотелось любить человечество, когда каждый второй брал в руки гитару и извлекал из нее бессменные три аккорда, когда были противны война и все, что с ней связано, и можно было с гордостью именовать себя пацифистами, когда джинсы были не только элементом одежды, а еще и безупречным символом свободы и борьбы с общественными нормами.
Мы были неформалами в душе. Носить банданы и дырявить уши - нам было необязательно, хотя я все же иногда делал первое и решился на второе. Ты считала глупостью проявлять свою индивидуальность внешним видом. Мятые футболки, рваные брюки, все это глупо, на самом деле, и уже ни капли неоригинально. Гораздо сложнее выделяться в толпе, где на всех надеты балахоны, лица скрывают капюшоны, звучит музыка, и нужно исполнять ритуальный танец.
Чиж – это драйв, романтика до боли в заусенцах, рев мотора железного байка и бесконечный ветер в ушах. Немного Чижа есть в каждом.
Помню тот вечер. Ты сидела на диване, я сидел на корточках перед тобой. Еще немного, и нужно было уходить. Уходить от тебя, но это дьявольски трудно. Каждое расставание я воспринимал, как землетрясение, как ураган, как сольный концерт Жанны Фриске, в конце концов. Было мучительно больно оставлять тебя одну, потому что невозможно было от тебя оторваться, тобой невозможно было надышаться, ты была подобна колодцу, найденному уставшим изможденным путником посреди пустыни, когда он уже отчаялся и перестал надеяться на чудо – его фляга пуста, в округе никого, палящее солнце, безостановочные галлюцинации и ни единого намека на оазис. И вдруг – колодец, и он оказывается реальностью, и в нем, на удивление, невероятное количество вкуснейшей прозрачной воды.
Именно таким источником счастья и наслаждения ты была для меня.
И вот я сидел перед тобой. Рука в руке. Молчали. В Плэйлисте – Чиж, кажется, трек «Снова поезд». Еще секунда – и уйду. Нет, не смогу, не посмею.
- «Бросаешь» - говорят твои глаза. – Бросаешь меня, да? – повторяют губы.
Нет, не бросаю, так надо. Поцелуй. Это был самый долгий наш поцелуй. Что-то было в нем особенное, будто вдохновение пожаловало или бывает такое, что год за годом ты выполняешь однообразную рутинную работу, и руки уже сами выполняют все автоматически, ни на секунду не мешкаясь, от этого и труд твой выходит схематический, одинаковый. Но однажды, ты даже сам не знаешь почему, ты все делаешь с каким-то особым неописуемым восторгом и работа тебе в кайф и результат сверхположительный и уникальный. Конечно, наши поцелуи работой назвать нельзя – это скорее душевная потребность, нежели физические явления, посему будем считать, что это было вдохновение. Некая высшая сила двигала и управляла нами.
А может быть, причина тому – Чиж, словом, я не знаю. Но мы целовались, и чувствовали, что это какой-то особый поцелуй, который, возможно, никогда и не повторится вовсе, возможно поэтому, нам так хотелось продлить его на сколько это было допустимо. Я чувствовал, как внутри что-то сжимается, словно внутри меня рождается новая вселенная, меньше той, в которой мы уже существуем, но ни на грамм не уступающей ей в красоте и могуществе. Эта вселенная носила твое имя, ты была виновата в ее рождении. Внутри было тепло, я походил на раскаленный до бела утюг, когда-то меня так и звали – «пылающий утюжок». Глупо, конечно, но в тот момент я был именно этим «пылающим утюжком» Мне казалось, что моего тепла хватит на миллиарды больших и маленьких планет, на сотни вселенных, но главное, что его должно было хватить твоему сердцу.
Что ощущала ты, мне было неизвестно, мы никогда не обсуждали это. Надеюсь, что и с тобой происходило нечто подобное, по крайней мере, я не видел, чтобы твое лицо скривилось.
«Снова поезд - вчера был куда-то и куда-то – сейчас» - Пел Чиж, предугадывая то, что спустя несколько дней такой же поезд увезет меня от тебя на полторы тысячи километров.
Мы долго смотрели друг на друга и ничего не говорили. Слова – самое жалкое выражение чувств. Они ни на что не годятся. Движение – есть жизнь, слова – всего лишь буквы. Далее я стою в коридоре. Обуваюсь. Ты стоишь напротив. Поцелуй. Короткий, невыразительный и не берущийся в сравнение с предыдущим. Кажется, я ушел молча.
- С тебя смсочка, - шепчешь на прощание ты.
Удар двери. Щелчок замка. Я спускаюсь по ступенькам со второго этажа, выхожу из подъезда, а небо уже светлеет, мир готовится к рассвету. Еще видны звезды. Одна, вторая, третья. Я плохо разбираюсь в созвездиях, знаю только Большую медведицу, ее и вижу, а в голове саундтреком к уходящей ночи звучит Чиж.
Полиритмия вагонных колес наводит на мысли о пьесе с названием "Take 5".
Луна.
Луна освещает пустые стаканы и лица соседей, храпящих на все лады.
Спи...
Ты, конечно же, еще не спишь. Я вспоминаю об смске, достаю телефон, набираю какое-то ярко-розовое и приторное пожелание, отправляю. Жду. Приходит ответ, за тем еще один и еще – этот уже последний. Я снова пишу, отправляю. Ты уже спишь. Телефон замолкает до утра.
Улицы города пустынны, а потому – прекрасны. Воздух бодрит, хочется танцевать, но я не умею. Когда-то я выиграл конкурс народных танцев. Это было еще в школе. Среди трех параллельных классов проводили конкурс. В течение трех или четырех месяцев на уроках народных танцев мы изучали какие-то движения, делали упражнения, репетировали танцы, и вот итог этих трудов был вынесен на суд строгих зрителей и жюри. Каким образом мне удалось заполучить первое место – для меня остается загадкой. И, не смотря на этот диплом, танцевать я не умею совершенно.
Я остановился на несколько секунд. Осмотрелся. По небу летела одинокая птица. Она радостно замахала мне крыльями, готов даже поспорить, что она улыбнулась мне, покружила немного над головой и скрылась за облаками. Раздался рев мотора. По дороге ехала поливочная машина. В городе начиналась жизнь. Лежа на зеленом диване тихо спала ты.
Снова поезд, и близнецы-рельсы куда-то ведут.
Снова поезд... Полагаю, мне опять не заснуть.
Снова поезд - вчера был куда-то и куда-то - сейчас.
Снова поезд - полуночный джаз...
Мы поругались из-за пустяка. Я в очередной раз сглупил. Мы была на даче. Нас было шестеро. Пиво, шашлыки, музыка: словом полное единение с природой. До поры до времени всем было весело, я был вполне адекватен, ты, хоть и чувствовала себя не лучшим образом, была весьма жизнерадостно.
Мои джинсы разорвались, я решил, что это знак свыше, и искромсал их дальше, став похожим на залихватского неформала. Оставалось еще серьгу в ухо, и булавки в джинсы. Булавок не было, штаны я закатал – получилась смесь скинхеда и хиппи, плевать, ведь мы были на даче. Кто там меня видел?
Ты смехом встретила мой наряд - псевдопроявление личности. Во мне ты этого не ценила.
Дача была небольшая, я не разбираюсь в сотках, думаю, что их было не больше пяти. Вы сразу пошли в малинник, мы стали разводить костер, готовить шашлыки.
После мы валялись в домике. Ты выбрала нам самую широкую кровать. Их было три. Играло радио, мы целовались в засос, ласкались, я приник к твоим грудям, я был похож на кота, неожиданно наскочившего на склад валерьянки. За уши не оттащишь. Губы, шея,
груди, живот – мой рот стремительно путешествовал по изгибам твоего тела. Я не помню, сколько прошло времени, оно просто перестало для меня существовать. Очень просто оказаться вне времени, невероятно сложно вернуться обратно, но нам пришлось это сделать.
Вечером, когда уже все были практически в норме, двое удалились в домик, чем искренне посмешили нас. Уж больно торжественный вид был у обоих, будто они шли выполнять государственное задание, Родину спасать, а не ублажать физические потребности.
Но вскоре мы уже не были рады этому событию. Прошли не меньше двух часов, а они вовсе не собирались возвращаться.
Вечер сменила ночь. Шашлык был съеден, пиво на исходе, состояние легкости и восторга тоже. Ты немного загрустила, практически не стала обращать на меня внимания. Я крайне разозлился, практически был взбешен. Тут вышли эти двое, я зашел в дом, схватил свой, поношенный и уже буквально вросший в меня, рюкзак и сказал, что ухожу. Ты посмотрела на меня, как на ненормального, я сделал вид, что не заметил твоего взгляда, пошел к воротам.
Я собираю свой нехитрый скарб:
Военный альбом, письма и что-то еще по мелочам.
И сержант к медбратьям рванул в надежде спирта добыть,
И дежурный махнул рукой: "Давай!"
Домой, домой!
Ворота были заперты, я не знал дороги домой, мы были на этой даче впервые, автобусы уже часов 5 как не ходили, денег в кармане не было, мелочь какая-то, этого, явно, мало. Уходить было совершеннейшей глупостью. Я это понимал, но был пьян и очень зол, сознавая, что до дома мне не добраться, я решил все же выбраться наружу побродить немного неподалеку и после вернуться к тебе. Я уже заносил ногу, готовясь перелезть через забор (я не знал, где ключ и не хотел его искать), но передумал. Я вдруг осознал, что в мгновение могу тебя потерять. Ты, сказала, что если я сейчас уйду, то я уйду навсегда, что можно будет о тебе забыть и лучше уже не вспоминать. Как же ты была на меня зла. Потерять тебя я не хотел и не имел право, все и так было весьма непросто, чтобы с легкостью отпустить тебя.
И я вернулся, скинул рюкзак, подошел к тебе, ты развернулась и ушла. Я выпил много и сразу. Вновь пошел к тебе. Ты не сказала ни слова, и вновь ушла. Поднялась на второй этаж, который, по сути, являлся чердаком, хлопнула дверью. Я ненавидел тебя. Ненавидел, потому что нечеловечески любил. Гораздо больше я ненавидел себя. Как я мог позволить себе, обидеть тебя, сделать тебе больно? Как? Ведь я же не человек, я самая откровенная сволочь. Знал же, что тебе будет неприятно. Знал, но все равно сказал, что ухожу. Сказал, рассчитывая на то, что ты станешь меня, словно ребенка, отговаривать, упрашивать. Идиот. Свинство – вот как это называется.
Ты плакала наверху, я это чувствовал, но не шел к тебе. Вместо этого упорно вливал в себя спиртное. Будто тебе приятно смотреть на мою пьяную рожу, полезшую к тебе с извинениями. Но я все же это сделал. Ты сидела на досках. Там весь чердак был завален какими-то досками и столетними тулупами. Я сел напротив тебя. Сел на колени, как бы это банально ни выглядело. По твоим щекам катились крупные слезы. Я хотел их вытереть, ты оттолкнула мою руку. Ты отворачивалась от меня, я разворачивал тебя к себе. Все это происходило молча. Я знал, что ты не поверишь ни единому моему слову. К чему тогда что-либо говорить? Наконец, твоя рука лежала в моей, ты уже практически не делала попыток ее вырвать. Слезы высыхали, было слышно, как внизу играет музыка, как танцуют остальные. Мне казалось, что я всего лишь сверчок, маленький беспомощный сверчок, которого ты можешь раздавить одним движением руки. Ты была огромной, как гордая и величественная львица. Ты была львицей, разорвавшей в клочья мою независимость. Вот только я не тянул на роль льва. Я был маленьким ничтожным сверчком. Возможно, что ты думала именно об этом. Я же не мог влезть в твою голову.
Я искренне раскаивался. Но ты мне не поверила, не припомню случая, чтобы ты признала и приняла мои раскаянья.
Спустилась ты одна. Я остался наедине с собой и терзавшими мой мозг мыслями. Я знал, что не потерял тебя, однако мы отдалились друг от друга, и чтобы вернуть предыдущую дистанцию между мной и тобой, мне было необходимо сделать не один шаг. Десять, а может и пятнадцать – я не лучший математик.
Мне надоело ошибаться, мне казалось, что ты ускользаешь, что я так и не смог тебя изучить, ни на грамм не стал тебе ближе. Волна боли и отчаяния накатила на меня, ударила в разрыхленный мозг, задержалась в горле, затем провалилась и растеклась по груди и желудку, так и не сумев вырваться наружу. Нужно было успокоиться, удавить негативные мысли, и я пошел за очередной порцией пива.
Ты смсилась с твоим бывшим. Ты так и говорила «Мой бывший» и неоднократно упоминала мне о том, что бросила его ради меня. Переполняло ли меня чувство гордости? Скорее я больше чувствовал ответственность, легшую на мои плечи. Раз ради меня, то я непременно должен оказаться лучше, быть единственным и неповторимым. Меня пугают подобные звания, уж слишком громки и почетны. Я – всего-навсего я, такой, какой есть. Выше головы не прыгнешь, но и ниже не упадешь. Он писал, что помнит о тебе, думает, любит, верит, что одумаешься, вернешься, как-никак он долгое время был единственной твоею любовью, твоим Богом, если можно так выразиться. В тот момент ты была близка к тому, чтобы восстановить его в должности Всевышнего. Однако, этого не произошло. Я был рядом, и я был тому причиной.
Ночь разгулялась не на шутку. Время уже давно перешагнуло через барьер полуночи, но мы продолжали бодрствовать. Ты танцевала, я тоже совершал какие-то нелепые движения. Делал я это, не потому что мне было в кайф, нужно было как-нибудь приблизиться к тебе, нужно было настроиться на твою волну. Будь я трезв, мне было бы стыдно за мои неумелые «па», но во мне сидело порядочно алкоголя, да и остальные влили в себя немало.
Перед сном ты сказала:
- Больше никогда так не делай.
Я посмотрел тебе в глаза, и кивнул. Мы поцеловались. В кровати мы еще какое-то время провели в ласках, но вскоре я почувствовал, что ты засыпаешь. Спал я не с тобой. Ты беззаботно уснула, заняв больше половины кровать. Я висел на самом краю, толкать тебя не стал, не хотел тревожить. Когда ты уже крепко спала, я вышел из домика и полез на второй этаж. Укрывшись тулупом, я уснул на железной лестнице, согнувшись, как минимум вдвое. Спал часа два, может три. Но утром я точно знал, что твоя обида исчерпана. Днем мы уехали с дачи. В голове у меня звучал Чиж…
Если хочешь, мы будем жить на другой планете
Под солнцем твоих немыслимо близких глаз.
Наш мираж никогда не сумеет разрушить ветер,
Когда он в покоях Вселенной отыщет нас.
Мы сбежали от всех. Просто взяли и ушли, не сказав ни слова. Сперва, мы шли в магазин, и не собирались этого делать. Я купил спрайт, ты купила сигареты. Назад возвращаться не хотелось. Там было много народа. Я уже несколько месяцев не видел их, ты же практически ни с кем из них не общалась. Нас ждали обратно, но мы не пошли. Зачем делать то, что не хочется? Мы открыли спрайт. Они пили спиртное, но оно не веселило их. Они сами не знают, зачем пьют. Они пьют, когда встречают друг друга на улице, когда гуляют, когда ходят друг к другу в гости, когда им плохо, когда им весело, от нечего делать, чтобы расслабиться. Мы зашли в ближайший дворик, сели на лавочку. В доме напротив в нескольких окнах горел свет. Мы смотрели на них. Рядом были черные квадраты окон. Они казались таинственными, было интересно узнать, что же скрывается за ними, что прячет от нас темнота.
Тогда мы были еще едва знакомы. Третья или четвертая встреча, свиданием ее даже с натяжкой было невозможно назвать. Мы сидели и смотрели на эти окна, о чем-то разговаривали, и было так хорошо от всего этого, что мы ушли оттуда, где нам не хотелось находиться, ушли от них, что мы вот так сидим и запросто разговариваем, что на небе луна льет на нас свой волшебный и магический свет, что, в конце концов, ты нравишься мне, а я тебе.
Тогда мы еще не знали, что это станет началом нашего совместного пути. Вернее, ты знала, а я только догадывался. Я, как всегда, был во многом не уверен, что-то искал, думал совершенно не о том.
Ты курила сигареты, я смотрел на дым, ускользающий на небо, и думал, что это нехорошо, что ты куришь, нет, конечно, не преступление, но все же было бы лучше, чтобы ты не курила. Я называл тебя «курильщицей», ты отвечала, что бросишь только, когда забеременеешь.
Зазвонил телефон. Звонила другая, говорила о чувствах ко мне. Я чувствовал себя сволочью, но ее чувства мне были ни к чему. Я что-то отвечал, грубил (не потому что мне этого хотелось, просто так было проще все закончить), она искренне удивлялась, почему я себя веду подобным образом. Наконец, я не выдержал и отдал трубку тебе. Полнейшая глупость, однако, ты взяла телефон и стала с ней разговаривать абсолютно спокойным тоном. Хотя совершенно точно знаю, что эта ситуация тебе была неприятна намного больше, чем мне.
И пока, ты разъясняла ей, что ее претензии глупы и неоправданны, я не отрываясь, смотрел на тебя. Мне казалось, что ты и есть то окно, которое за ширмой темноты скрывает в себе немыслимо яркий свет. И мне хотелось заглянуть в это окно, я чувствовал, что мне это было необходимо. «Вырви гвоздь, скрепивший твое прошлое с рушащейся стеной сознания» - пронеслось в моей голове. И я погрузился в омут страсти и печали, ни секунды не сожалея о принятом решении.
Телефонный разговор был окончен, ты протянула мне трубку и улыбнулась. После этого я долго и возбужденно говорил. Ты закурила еще одну. Я выплескивал наружу все то, что давно уже кипело у меня внутри. Ты внимательно слушала, или делала вид, что слушала, а после назвала занудой. Для тебя я пожизненно закреплен к этому определению. Все из-за что я постоянно чем-то недоволен. Мир – не совершенен, глупо с этим бороться. Он настолько же идеален, насколько и утопичен.
Дальше мы сидели молча. В наушниках у тебя играла музыка. Ты всегда положительно отзывалась, если на вопрос «что сейчас слушаешь?» я отвечал «Чижа». Мы одинаково любили его.
- Не понимаю, - говорила ты, - как можно не любить Чижа? Мне это тоже было непонятным. С Чижа началось мое знакомство с миром настоящей музыки. С десяти лет он тесно вписался в мою жизнь и занял в ней достойное место. Моей первой песней была «Вечная молодость». Ты любила «Дополнительный 38-й», «Хучи-кучи Мэн», конечно же «Перекресток», «Она не вышла замуж», «хочу чаю», «Автобус», «Вот пуля просвистела», «Ок», «Полонез». Как-то ты спросила, что из Чижа включить? Я ответил, что мне все равно, потому что у Чижа нет плохих песен, ты согласилась и поставила «Снова поезд».
Мы не были фанатами его творчества, мы понимали, о чем он пишет, и нам нравилось, то, как он это делает.
Звонил телефон. Нас, все-таки, хватились и начали разыскивать. Ты долго не брала, ты не знала, что сказать, наконец, решилась, сказала, что тебе стало плохо, и ты ушла домой. Я якобы пошел тебя провожать. Ты не любила врать, хотя иногда приходилось это делать. Позже мы договорились, что мы не будем друг друга обманывать. Но обещания не всегда возможно выполнить.
Луна медленно выкатилась из-за туч. Ее печальный и тусклый блеск освещал твое задумчивое лицо. Луна была тебе к лицу. Что-то было в твоем задумчивом выражении, какая-то магическая сила, которая тянула к себе с невероятной силой, манила таинственностью. Ты казалась печальной, но не унылой, а именно опечаленной чем-то, хотелось тебе помочь, научить быть счастливой, хотя я и сам не знал, каково это – быть счастливым.
Теперь я понимаю, что счастье – это когда ты танцуешь. Но я не умел танцевать, ты могла бы помочь мне научиться, и тогда вместе мы бы сочинили наш собственный танец, танец нашего счастья. Но тебе самой был нужен тот, на кого можно было бы опереться и стать навсегда слабой, как это и должно быть по законам природы. Женщина хранительница очага, мужчина – охотник и защитник, внимательный и любящий – такие все реже встречаются.
Тогда я впервые подумал о том, что было бы неплохо тебя поцеловать. Реализовывать мысль я не стал. Все-таки ты еще была с твоим бывшим. Мы посидели еще немного и ушли. Звезды устроили на небе балаган и разыгрывали сценки на бытовые темы. Я проводил тебя до подъезда. Ты вошла внутрь. Фонари разрывали оковы темноты, ветер теребил мне волосы, я навсегда запомнил твое лицо. В окне второго этажа загорелся свет. Я ушел. Свет – это надежда на лучшее. Это было твое окно.
Повинуюсь тебе и вручаю свою душу и сердце свое.
Я, конечно, увы, понимаю - вряд ли нужно тебе это все...
Дай мне шанс оправдать свои чувства, потерпи хоть немного, молю!
Ты поверь - мне и больно, и трудно...
И к тому же я все же люблю!
Воспоминания, как лампочки – то гаснут, то неожиданно вспыхивают….
Когда мы впервые увидели друг друга, я играл на гитаре. Мы никогда друг о друге не слышали, и даже при встрече не познакомились.
Это был массовый поход на природу. Помимо нас – те же лица, плюс еще несколько человек. Мы пели, как это обычно и бывает, русский рок. Те немногие песни, которые я умею играть. Пели и Чижа «О любви». Всего одну песню, но не потому что я не смог сыграть больше, просто, кроме тебя и меня другие его песни мало кто слушал. Мы не обратили друг на друга внимания. Так оно обычно и бывает. Нам просто не пришло время заметить друг друга. Вскоре ты ушла, а я в тот вечер напился, прыгал через костер, спалил галстук (спрашивается – какая была необходимость надевать галстук, отправляясь на природу?), несмотря на не сезон, купался в реке. Через год мы официально познакомились.
У нас было свое место. Только наше место, хотя оно не было безлюдным, рядом всегда находились какие-нибудь люди. Друзья, враги, незнакомые. Возле тебя постоянно крутились бродячие собаки, коты, насекомые. Они тянулись за тобой хвостом. Случалось, что за тобой следовала целая стая бездомных кобелей. Но мы никого не замечали, ничто не могло нас вырвать из сказки.
Мы сидели на обрыве и смотрели на реку. Сидели прямо на траве или на целлофановых пакетах. Порошковое вино. Редкостная гадость. Но ты неоднократно говорила о том, что неважно, что ты пьешь, гораздо важнее – с кем. Еще ты говорила, что напиваться нужно водкой. Я не пью горькую, ты же с нее практически не пьянеешь. Парадокс – бутылка пива тебя чуть ли с ног сбивает, а бутылка водки всего лишь хмелит.
В начале своих отношений многие ходят в кинотеатры, кафе, клубы, на концерты. Мы ходили на обрыв. Он приносил нам покой и умиротворение, столь необходимые нам обоим. Ты устала быть сильной, я устал от неудач и несправедливости. Здесь ничего не напоминало о прошлом, об остальном мире, о болезнях, завистях, обидах, предательствах. Мы туманили мозг вином, целовались, разговаривали, ты смеялась, называла меня в стомиллионный раз «занудой», ложилась головой на мои колени, я гладил твои волосы. У тебя удивительные волосы. Они настолько мягки и приятны на ощупь, что мне казалось, что я окунаюсь в них, как в море. Я мог их гладить часами. Я портил твою прическу, каждый раз ты ругала меня за это, приподнявшись на локте, ты произносила:
- Что ты наделал? Опять мне все волосы растрепал…
И снова ложилась. А я иступленный гладил твои волосы, смотрел на тебя свысока, улыбался, как ненормальный, и пьянел больше от тебя, чем от вина, у которого был прескверный вкус, и которое рождало тягостное похмелье. Когда заканчивалось вино, мы начинали ссориться. Идиллия не может длиться вечно, все имеет свой логический финал. Прилив энергии сопровождался бурным выражением эмоций, мы ссорились из-за мелочей, ты обвиняла меня, что я постоянно ною и жалуюсь, я лез к тебе с поцелуями, ты отталкивала меня, говорила, что я совершенно ничего не соображаю, мы собирались, шли домой, я вел себя отвратительно, пел песни, падал в кусты, разговаривал со светофорами, либо делал что-нибудь в подобном роде. За эти мои глупости ты и любила и не могла терпеть меня одновременно.
Но так было не каждый раз. Частенько ты рассказывала мне про тех, с кем была раньше. С одним тебе не о чем было разговаривать, другой никогда не интересовался тобой, с одним у тебя было все замечательно, он был старше тебя, он ничего не требовал от тебя, вы заранее знали, что ваши отношения рано или поздно закончатся, и просто не забивали себе этим голову. Тебе было с ним хорошо, жизнь на кураже, ночные походы на его работу, драйв и рев мотора, раздирающий тишину ночи, шикарный секс. Он был твоим гражданским мужем, если бы он остался, то был и бы официальным. Но он уехал.
Ты не требовала от меня куража, но я чувствовал, что он не был бы лишним. Я терпеть не мог твои рассказы – тут было крайне задето мое самолюбие, меня не интересовало, что было до меня, это было раньше и не со мной, но с другой стороны я понимал, что именно этих воспоминаниях кроешься ты, без них невозможно тебя узнать, отчасти понять. Сам я старался не говорить о том, что было не связано не с тобой, но, если честно, мне практически нечего было рассказывать, летопись моих продолжительных отношений еще не была начата. Я считал, что не создан для серьезных отношений, и, уж тем более, гражданского брака.
Когда же я слышал о тех, кто были с тобой раньше, то не мог не думать о том, что когда-нибудь ты будешь с серьезным видом говорить очередному зануде или отличному парню о том, что был некогда в твоей жизни один такой неисправимый зануда. Слабый он был какой-то, не справился с возложенными на него ожиданиями, без куража был совсем, ты потратила на него усилия и время, а он…. Я много еще чего такого себе воображал, пока не вспоминал, что жалеть никогда и ни о чем не стоит. О всех бывших ты вспоминала с теплотой и благодарностью.
Иногда мы засиживались на обрыве допоздна. В реке отражались звезды. Они были настолько близко, что можно было взять их на руки, подержать в ладонях. Мы рассказывали друг другу сны. Ты редко видишь сны, и все они полны абсурда и психоделики. Твои сны могли бы с легкостью выйти в свет под кистью Дали или Пикассо. Мне снятся более праздные вещи, но я способен заразиться сном, ходить потом под впечатлением неделю или около того. Однажды во сне я чувствовал, как кто-то управлял моим телом. Ощущения были на грани реальности и потустороннего мира. Это длилось не менее десяти минут, я не мог проснуться, хотя сознание мое работало, я чувствовал, что кто-то меня душит, хотел уже прощаться с этим миром, но неожиданно все закончилось. Я спрашиваю твое мнение по этому поводу, ты ничего не отвечаешь, ты считаешь, что это лишь плод моего бурного воображения. Меня обижает твое отношения к моим словам. Я искренне надеялся узнать твое мнение. Мы еще сидит какое-то время. Звезды уносит течение, они покачиваются на ходу и горят блеском твоих глаз. Я больше не могу сдерживаться, я целую тебя.
- Пора. - Говоришь ты, и мы уходим. Я встаю и вижу, как падает звезда. Она искрится бенгальскими огнями, затмевая своим блеском все когда-либо существовавшие светила. Еще мгновение и, сорвавшись с края небосклона, она гаснет. Я беру тебя за руку и понимаю, что так и не успел загадать желание.
Мы отрываемся от земли и взлетаем. Твои волосы щекочет ветер, он соскучился по твоим космически грустным и красивым глазам. Мы кружим над высокими деревьями, над крышами домов, внизу мелькнул твой дом, город уменьшается с невероятной скоростью, а мы летим все выше и выше, пока не ударимся головами об крышу космоса. Рядом с нами кружит синица, в ее крыльях больше свободы, чем во всем человечестве.
Я беру тебя за вторую руку и обнимаю тебя. Ты улыбаешься мне. О, Господи, я танцую!!!!
Идиллия наша настолько нелепа, что мы не находим слова
Мы все понимаем, мы просто смеемся - нам нравится эта игра.
Спасибо Сергею Чигракову и группе Чиж и Кͦ .
Глава третья «Жизнь» (Павел Кашин -1995 г)
Она - словно ветер с которым нет сладу.
Она как... Такая, но нет я не знаю...
Так много надо, чтоб лишь увидеть,
Павел Кашин
В нашем доме появились шарики. Три сотни разноцветных воздушных шаров. Я выгуливал твою собаку, это становилось некой традицией – все твои мужчины проходили через данный обряд. Нынче это стало моей обязанностью.
Шел и сочинял и стихотворение. Что-то футуристическое, получалось неплохо. Шел и думал, что обязательно тебе прочту его. И вот захожу в дом – вижу шары. На диване лежишь ты, на столе два фужера и вино. На полу листы, карандаши, краски. Твои глаза закрыты, но ты улыбаешься.
- Вернулся? – Произносишь ты, не открывая глаз.
- Туда ли я вернулся? – Переспрашиваю.
- Да вот решила порисовать – че-то накатило.
- Уяснил. – Улыбаюсь. – А шары зачем?
- Красиво?
-Да, но зачем так много?
- Не занудничай, а? – Вздыхаешь, открываешь глаза, садишься.
Мою собаке лапы, снимаю ошейник, отпускаю. Ты рисуешь на стене дерево. Дерево – символ силы и духовного роста. Сегодня у тебя замечательное настроение. В плэйлисте – Кашин. Любуюсь каждым твоим движением. Ты редко рисуешь. Это меня огорчает. Я люблю твои рисунки. Мне нравится все, что ты делаешь, даже то, как ты сердишься.
Ты училась в художественной школе, но не закончила. Я опечален этим фактом и неоднократно говорил тебе об этом, ты равнодушно пожимала плечами, не видя ничего трагического. Человек, умеющий рисовать, обязан это делать – таково мое мнение. Раз тебе был дан талант свыше, то нужно с благодарностью его использовать, иначе – ты губишь божественный дар. Но ты променяла искусство на медицину. Впрочем, медицина – тоже искусство, только полезная больше для физиологии человека, нежели для его духа.
Из обыденно-серых обои превращаются в празднично-цветные. К дереву присоединяется камин, огромный улыбающийся слон, ты, часть меня, высокий холм, дом с валящим дымом из его трубы, радуга.
Я наливаю в фужеры вина, протягиваю один тебе, но ты не замечаешь моей руки, ты настолько поглощена работой, что забываешь поправить сползающие с носа очки. Карандаш мелькает с невероятной быстротой, ты прекрасно владеешь им, этого у тебя не отнять. Это не совсем хорошо, но я пью один. У вина приятный кисловатый вкус. Я не люблю терпкое вино. Но и совсем кислое не доставляет мне удовольствия. Полусладкое – это, так называемая, золотая середина. Вино медленно растекается по телу, разнося до жути приятное тепло по всему его пространству.
Усаживаюсь поудобнее в кресле, ты – ноль внимания на меня, закидываю ноги на стол (давно мечтал провернуть подобное), потягиваю вино. Тело приобретает легкость, я чувствую, как поднимаюсь все выше и выше, глаза закрываются.
Не знаю, сколько времени я спал, просыпаюсь от неприятного ощущения, словно кто-то щекочет мой подбородок. Открываю глаза. Ты разукрашиваешь мою бороду в синий цвет.
- Что это такое? – Сердито смотрю на тебя.
- Теперь ты Синяя борода – Улыбаешься мне в ответ.
- Зачем?
- Так веселее! Разве нет?
- Не очень.
- А я еще пенсне тебе нарисовала и смайлик!
- Какая прелесть.
И мои руки хватают твою стройную талию, пальцы стремительно скользят по нежной и гладкой коже, останавливаются на уровне бедер, замирают. Губы целуют живот. Твой живот в сравнении с моим, как лужа и океан: первая сужается и сохнет, второй же – растет и ширится. Твои пальцы сжимают мои волосы. Поцелуй, за ним другой, еще один, еще и еще, порыв необузданной страсти охватывает мой возбужденный тобой и алкоголем организм. Наши губы находят друг друга, языки сплетаются, подобно змеям.
Через час мы уже кидаемся в друг друга подушками, рисуем руками картины на стенах, рисуем на теле друг другу различные иероглифы, плюемся на «кто дальше» вином из трубочек, щекочем друг друга, валяемся на диване, глядя в потолок и размышляя о том, что неплохо было бы затащить на него звездное небо или, как минимум, поменять люстру. Я глажу твои волосы, так хорошо, так тепло внутри, и не хочется тебя отпускать, но ты встаешь, подходишь к столу, вынимаешь из пачки сигарету, прикуриваешь. Ты стоишь у окна, голая, с сигаретой, немного уставшая. В колонках Кашин.
Я прокрадусь по ветеркам,
Я превращусь
В твой самый тонкий гребешок.
К твоим рукам, к твоим вискам
Я прикоснусь
Своей пластмассовой душой.
Я смотрю на тебя, не отрываясь. Придумываю оригинальный комплимент, в довесок к нему хочу сказать, как ты мне дорога, как счастлив я, что судьба свела нас вместе, что мне чертовски нравится твое тело, когда ты вот так стоишь передо мной в естественной своей красоте, я чувствую себя бизоном, я способен небо стащить сверху и шкурой огромного медведя бросить к твоим ногам. Мне хочется продлить вечер, я хочу, чтобы ты почувствовала, что я способен быть тем, о ком ты мечтала все эти годы, что я и есть тот единственный и неповторимый, который навсегда разрушит твое одиночество, заменив его новым миром, собой, будущими детьми. Когда детей называют отпрысками, мне становится не по себе, уж слишком пренебрежительно это звучит, похоже на «отброски», ты не находишь?
Ты тушишь сигарету, и выкидываешь окурок в окно, я так и не сказал тебе не слова, а следовало бы, нужно еще так много друг другу рассказать, столько всего осмыслить… Или мне только так кажется?
Мы рассказываем друг другу сказки. Начинаю я, ты продолжаешь, потом снова я, затем ты. Горит свеча, шоколад тает в руках, третья бутылка вина уверенно пустеет. За окном гуляют сумерки.
- От звезды откололся кусок. Случилось это утром, когда она уже спала, и ей снилось то, как облако, похожее на большого полосатого кота, охотилось на другое облако, похожее на пучеглазого полосатого окуня. Окунь ловко увертывался от прыжков и выпадов кота, кот злился, выпускал когти, шевелил усами, запрыгнул даже на третье облако, похожее на стену, не успев увернуться. Пока кот отлеплялся от стены, окунь корчил ему рожи, дразнил его своим неказистым хвостом, распевал жутко веселые песенки и в самый последний миг, когда кот уже летел в прыжке на своего практически уже заклятого врага, стремительно взлетел в высь и растворился в пространстве, как тень Отца Гамлета. За ним растворились второе облако и сам сон. Тут-то звезда и проснулась, и обнаружила, что у нее нет малюсенького кусочка, без которого она, однако, совершенно не напоминает звезду, и что из-за этого остальные светила, станут смеяться над ней.
Я не успеваю продолжить, ты останавливаешь меня с выражением явного недовольства на лице.
- Разве это сказка?
- Конечно.
- Ни фига подобного. Вот это сказка.
И ты достаешь свою любимую «Алису в стране чудес» и начинаешь читать:
«Алиса и Синяя Гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец, Гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила:
- Ты... кто... такая? - спросила Синяя Гусеница».
Твои брови сердито хмурятся. Входя в роль гусеницы, ты играешь на полном серьезе. Такая забавная. Я не удерживаюсь, и хихикаю. Ты сурово смотришь на меня, затем продолжаешь:
«Начало не очень-то располагало к беседе.
- Сейчас, право, не знаю, сударыня, - отвечала Алиса робко. - Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась.
- Что это ты выдумываешь? - строго спросила Гусеница. - Да ты в своем уме?
- Нe знаю,- отвечала Алиса. - Должно быть, в чужом. Видите ли...»
Теперь ты уже изображаешь Алису, проговаривая ее фразы детским голосом. Твое лицо приобретает выражение искренности и наивности. Я едва сдерживаю себя, чтобы не поцеловать тебя, ты пшыкаешь на меня, трясешь указательным пальцем, читаешь:
«- Не вижу, - сказала Гусеница.
- Боюсь, что не сумею вам все это объяснить, - учтиво промолвила Алиса. - Я и сама ничего не понимаю. Столько превращений в один день хоть кого собьет с толку.
- Не собьет, - сказала Гусеница.
- Вы с этим, верно еще не сталкивались, - пояснила Алиса.
- Но когда вам придется превращаться в куколку, а потом в бабочку, вам это тоже покажется странным.
- Нисколько! - сказала Гусеница.
- Что ж, возможно,- проговорила Алиса. - Я только знаю, что мне бы это было странно.
- Тебе! - повторила Гусеница с презрением. - А кто ты такая?»
- Ну, как? – Довольно улыбаешься!
- Изумительно – Выдыхаю я.
- Дурак.
Ну, вот снова получил. Я люблю сказку про Алису, не меньше твоего, и ты отлично знаешь это. Я вынимаю сигарету, из твоей пачки, долго ищу зажигалку, нахожу, прикуриваю, затягиваюсь. Ты с удивлением смотришь на меня, это третий или четвертый раз, когда я курю при тебе. Собственно, это третий или четвертый раз за последние полгода. Я не люблю сигареты, я уже упоминал об этом.
Какое-то время мы слушаем музыку, но время сказок еще не окончено. Я чувствую, как начинаю пьянеть, это значит, что скоро у меня будет либо приступ нежности, романтики, страсти, либо словарный понос, возможно и совмещение всех вариантов, но с гораздо меньшей вероятностью. И вот, собравшись с духом, я прищуриваю глаз и говорю:
- А вот эту сказку, ты, наверняка, не знаешь. Уж тут-то я отыграюсь, ты еще спляшешь мне гопака.
- Ну-ну.
- Слушай! – И я поднимаю указательный палец, выдерживаю паузу, начинаю. – Однажды ежик решил встретить рассвет. Была весна, и все в лесу веселись и танцевала, и медвежонок, и заяц, и лягушки, и даже волк приплясывал, пока никто не видел. А ежик, он не такой, как все был, он природу любил, понимаешь? Другие тоже ее любили, а он по особенному как-то, он умел ценить красоту леса, любил смотреть на звезды, он даже ходил с медвежонком по ночам протирать их от пыли. И вот он пошел на горку, чтобы встретить на ней рассвет.
Тебя начинает клонить ко сну. Ты редко дослушиваешь мои истории до конца (хотя это сказка Сергея Козлова), в них мало абсурда, они нереальны и все про звезды или луну. Я щипаю тебя, ты щиплешься в ответ, показываешь мне язык, я продолжаю:
- Он размышляет о том, каким будет этот рассвет, ему кажется, что зеленым, поскольку весной все зеленое. Ежик думает про себя, что не будет спать совсем, чтобы не пропустить, когда наступит рассвет, но время медленно идет, только-только звери начинают собираться спать. Ложится сова, медвежонок, заяц, лягушки прекращают квакать, волк забирается к себе в логово, а ежик ходит из стороны в сторону и ждет рассвет. Но тот и не думает приходить. Ежик начинает беспокоиться, уж не случилось ли чего, может нужно его спасать, но затем решает. Что рассвет всего-навсего задерживается, спит где-нибудь и не торопиться приходить. И тогда он думает о том, что неплохо бы и самому вздремнуть. Совсем немного. И он ложится на землю, свернувшись клубком.
А утром приходит рассвет. Синий-синий. Он видит спящего ежика, и будит его. И когда ежик просыпается, он видит весенний рассвет, которого так долго ждал, и он радуется, потому что знает, что иногда достаточно одного рассвета, чтобы почувствовать себя счастливым. Все.
Но ты уже давно спишь. На лице застыла улыбка. Я так люблю, когда ты улыбаешься. Однажды я сказал, что твоя улыбка дороже всех богатств планеты, что ты сама не знаешь цену своей улыбки, но ты мне не поверила. Я грустный сказочник, такие, обычно, все выдумывают, потому что не способны видеть в мире положительное. Они грустят и придумывают миры, в которых им будет хорошо. Спи, а я еще немного порадуюсь сегодняшней ночи. Закуриваю еще одну сигареты, курю медленно, растягиваю удовольствие, рассматриваю твои художества. Завтра ты проснешься, и надолго забудешь о том, что умеешь рисовать, но эта стена будет раз за разом напоминать, это неоспоримое доказательство, которое способно подарить настроение. И я оглядываю комнату. Шарики. У нас же еще остались шарики! Сегодня мы лопали их, пинали, вдыхали гелий и пели песни забавно искаженными голосами. Ты нарисовала на одном из шариков очки и бороду и назвала моим именем. Где же это шарик? Ах, вот он!
Жаль, что кончается сигарета, новую я не стану закуривать – нужно оставить тебе на утро, да и мне ни к чему они. И я беру еще один шарик, рисую ему маркером улыбку, сузившиеся от смеха глаза, твою прическу и подписываю твоим именем. Я связываю нитки обоих шаров, теперь они будут вместе, пока не сдуются.
Ты рисовала этюды, рисунки не окончены, кладу их поближе к тебе, может быть, тебе захочется их завершить завтра. Сам же беру, оставшиеся белые листы, карандаш, ластик. Черт, я совершенно не умею рисовать. Ни деревья, ни коты, ни люди – все корявое, непохожее, отталкивающее. Я хотел бы нарисовать тебе море, наш остров, нашу комнату, тебя. Начинаю с твоих глаз. Это единственное, что хоть как-то у меня выходит. Глаза рисуют больные шизофренией, я не знаюсь откуда, это повелось, но это доподлинно известно. И я уже не могу остановиться. Глаза. Синие, зеленые, расширенные, суженные, злые, печальные. 10 листов всевозможных глаз. Нужно их уничтожить – самому становится жутко от такого количества глазных яблок, уставленных на меня. Делаю из них самолетики и отправляю путешествовать. Ветер с удовольствием подхватывает их на лету, и по-приятельски толкнув спину, отправляет странствовать по миру, на который они будут глядеть десятками нарисованных мною глаз.
Какой-то гномик, как иностранец,
Опять засел твердить мне о вечном,
Но я-то знаю, что он вчерашний.
И в сотый раз поднимаюсь на башню
Взглянуть на небо,
Где наша звезда еще пляшет
Безумный танец.
Иногда я представляю, что идет война. Так уж сложилось, что в детстве девочки играют в больницу, а мальчики в войнушку, а когда вырастают, девочки идут в актрисы или модели, а мальчики покупают себе липовые болезни и не идут в армию. Не все, конечно, но многие. И вот меня отправляют на фронт. Мы стоим на перроне, прощаемся, ты плачешь, говоришь, что любишь, будешь ждать, и обязательно дождешься, прощальный поцелуй, и я залезаю в эшелон. Поезд трогается, и я вижу твои глаза, полные слез, я вижу, как ветер безжалостно треплет твои волосы, и руку, неловко застывшую в воздухе.
С фронта я пишу тебе ежедневно письма, ем перловку, получаю твои ответы, драю до блеска автомат, хожу в разведку. И вот однажды мы выполняем секретное задание, успешно выполняем операцию, и меня награждают орденом.
Я возвращаюсь (а мы, разумеется, побеждаем врага) героем. Ты встречаешь меня у порога, в желтом ситцевом платье. Мы долго стоим обнявшись, не произнося ни слова, затем я начинаю тебя целовать: мелко, суетливо, беспрерывно, в губы, в щеки, в шею, в нос, целую твои руки, каждый палец.
Мы заходим в дом, ты кормишь меня обедом. Есть почти нечего, но ты сумела найти немного картошки, хлеба. Я показываю тебе военные трофеи, зачем-то дарю гильзы (для чего они тебе?) и весь следующий день мы не встаем с кровати, я рассказываю тебе о том, какая страшная вещь – война, о своем ранении, о том, как лежал в госпитале. Ты внимательно слушаешь меня, и я вижу то, как тебе не хватало меня, как ты меня ждала, как ты любишь меня…
Или вот еще. Мы сидим с тобой в кинотеатре. Вдруг начинается паника, кто-то громко кричит: «Пожар!». Все срываются со своих мест, бегут к выходу, толкучка, мы попадаем с тобой в толпу, которая нас рассоединяет, ты в одной стороне, я в другой, и между нами люди. Целая толпа народа. Я даже не замечаю, как мы оказываемся на улице. Я тут же кидаюсь на поиски тебя. Хватаю каких-то совершенно незнакомых мне людей, отталкиваю их, зову тебя. Но тщетно, тебя нигде нет. Вокруг уже полно пожарных машин, пожарные направляют струи воды, на разгорающиеся пламя, женщины кричат от ужаса. И тут становится известно, что в кинотеатре осталась одна девушка, что к ней уже невозможно пробраться, сквозь бушующую стену огня. Я сразу понимаю, что это ты, и не раздумывая, бросаюсь в самую гущу пламени. Я слышу, как сзади раздаются крики: «Идиот», «Ненормальный», «Остановите этого придурка»….
Огонь обжигает мое лицо, он жалит меня, как тысячи коварных змей, решивших пропитать мое тело ядом, я чувствую, как трескается кожа, но продолжаю пробираться к тебе. И вот я замечаю, что ты лежишь без сознания на полу, обгоревшими руками я поднимаю тебя и, пошатываясь, иду в выходу, туда, где нас ждет яркий свет жизни, туда, где мы будем спасены и счастливы. В двадцати сантиметрах от нас падает горящая балка, еще бы один шаг, и она свалилась бы на нас, и тогда мы. Навряд ли смогли бы выбраться. Тут я понимаю, что уже не могу дышать, видно, надышался угарным газом, я начинаю кашлять, тело обмякает, и мы вместе падаем вниз. Силы на исходе, я ползу и тащу тебя за собой, и вдруг, темнота. Ничего нет, наверное, это конец. Я даже не успеваю этого осознать. И где-то далеко-далеко раздаются едва уловимые голоса, все же я не смог… Но голоса становятся все отчетливее и отчетливее. Это пожарные, они поднимают нас обоих и выносят наружу. Когда я прихожу в сознание, мне дают по шее за безрассудство все мое тело в ожогах, к счастью, они не смертельны. Возле тебя бригада санитаров приводят тебя в чувство, им это удается, и я вижу, как улыбаешься. Твоя улыбка вымучена, у тебя абсолютно не осталось сил, но эта улыбка принадлежит мне. Я стал для тебя героем, хотя ты даже не знаешь, что я был виновником твоего спасения.
В моей голове мелькает еще несколько историй, в итоге которых я спасаю тебя, то от злого хищника, то от наводнения, или я управляю падающим самолетом и, в конце концов, сажаю его на землю, под ликованье, обезумевших от страха пассажиров. Мне необходимо, чтобы ты знала, что можешь на меня положиться, что я тверд, как скала, что я в любую секунд могу придти на помощь и спасти тебя. В голову приходит стихотворение Роберта Рождественского, одно из моих любимых:
«И тогда я вымахну -
вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное -
в море брошусь,
густое,
зловещее,
и спасу тебя!..»
Мне нужно стать для тебя героем. Я накрываю тебя пледом, целую в щеку и выхожу из дому. Небо расстелило звездный ковер, я вижу, как одна из них танцует, словно марионетка. Я даже вижу нити, тянущиеся от нее вверх, но того, кто управляет этими нитями разглядеть невозможно. И тогда мне кажется, что все на нашей планете – это обман, что все мы лишь марионетки в руках Господа или кого-то еще, кто стоит выше нас, кто умеет ловко управлять нами так, чтобы нам казалось, что это наше осознанное решение сидеть или прыгать, а не щипок за нитку. И я вижу, что у деревьев есть нитки, прозрачные, едва заметные, но до предела твердые. Такие невозможно порвать или разрезать, они навеки сковали нашу свободу. Я вижу нити, которые привязаны ко мне. А звезда танцует под чью-то дудку. И танец прекрасен, но ее ли это заслуга?
Я сажусь на камень и смотрю на море. Море обладает магическою силой, оно действует успокаивающе, будто топит в себе чувство тревоги. Я вижу чайку, кружащую над его водами. Эта чайка напоминает мне тебя, она так же одинока, так же прекрасна, так же печальна. Мне хочется с ней поговорить. И я рассказываю ей о тебе, о том, что вы похожи, о том, как я тебя люблю, о том, сколько песен и стихов я написал для тебя. В каждом из них живет мое огромное сердце, оно сшито из любви к тебе и безбрежного ночного неба, оно помнит каждую твою улыбку, все твои слезы, страхи, мысли, оно насквозь пропитано тобой, оно – то, что скрываешь в себе ты. Ты можешь делать с ним все, что угодно. Можешь даже выкинуть, но сегодня я привязал воздушные шары друг к другу, и на одном из них написано твое имя, а на втором мое, мы соединены невидимыми нитями, такими же, какие покоятся в руках кукольника. Если тебе ни к чему мое сердце, то лучше не выбрасывай его, отдай мне, хотя без тебя, мне с ним делать нечего.
Чайка не может мне ответить, мы не умеем понимать животных и птиц, они нас понимают, а вот мы их нет. Какая-то несправедливость. И летаем только во снах или мечтах. Нет, пожалуй, Экзюпери летал наяву, он тоже был птицей….
Сердце мое -
Бог огромного неба.
Да, Павел Петрович, вы знаете, как написать. Сейчас, когда ты спишь, и тебя мне заменяет его голос, я думаю о том, что мы живем в его песнях. Может быть, мы его марионетки, а он наш кукольник. Он смотрит на нас сверху и пишет по нас песни. Может быть, он выдумал и тебя, и меня, а сам танцует на песке, где море разрушает песочные замки?
Иногда мне кажется, что мы идем с тобой по пустыни, у которой нет ни начала, ни конца, ни деревьев, ни рудников. Песок и мы. И мы идем, ищем выход, но чем дальше уходим, тем больше становится пустыня. И получается, что мы стоим на месте, пока однажды не развернемся и пойдем в другую сторону. Однако, и там – пески и больше никого. А если мы остановимся, то и нас засыплет песком. Движение есть жизнь, но жизнь пуста и прозрачна.
Иногда я чувствую себя снегом, который кружится и падает тебе на волосы, на плечи, на руки. От одного прикосновения к тебе я таю. Снежинки превращаются в слезы и падают на землю, скоро они будут растоптаны чьими-нибудь подошвами. «Где мне украсть запах твоих слез?». Когда я вижу, как ты плачешь, сердце сжимается, она становится маленьким, как молекула, а глаза заливает волна необъятной боли. Когда ты плачешь, темнеет небо, когда ты плачешь, разбиваются кометы, когда ты плачешь, я вспоминаю, как резал вены.
Песни Кашина – это сказки, грустные прекрасные истории, не всегда понятные, но такие близкие и знакомые. Я почему-то верю, что, выйдя на улицу, можно встретить слона со смешной шляпой на голове, которую он постоянно снимает хоботом, приветствуя каждого жителя города. Я верю, что каждый может сделать грим и быть мимом, и самое главное, что мимы умеют улыбаться, хоть и показывают всегда лишь грустные этюды. Я верю, что жизнь – ни что иное, как балаганчик, где каждый шут мечтает стать королем, а все короли давно уже стали шутами. Где свадебная фата ассоциируется у всех с зимой или со стаканом холодного молока, а не со свадьбой. Где мужчина и женщина – одно целое, только у мужчины голова повернута в одну сторону, а женщина смотрит в другую. Где в обыкновенном куске картона больше жизни, чем в глазах жестокого дьявола. Где Господь протягивает нам свои руки и можно запросто с ним сидеть, пить чай с сушками и беседовать. Где, пока горит огонь, рождаются люди, происходят чудеса. Где, если веришь в жизнь, то смерти нет. Где на твоем столе танцуют гномы и строят тебе рожицы. Где человек, как и подсолнух, тянется к солнцу и танцует на лезвии бессмертия.
Чайка улетает. Больше я ее никогда не увижу. Нужно придумать что-нибудь эдакое, чтобы утром ты увидела, обрадовалась и улыбнулась, очень важно начинать день с улыбки, тогда и тебе хорошо будет, и другие станут радоваться при виде тебя. Начинаю перебирать варианты: завтрак в постели – банально, но средство верное, остается только продумать меню. Было бы глупо на этом остановиться. Написать на песке: «Я тебя люблю!!!». Ничего более идиотского я не придумывал. Если уж играть в эти банальные тупости, то хотя бы по своим правилам. Придумал. Знай, на сколько я тебя обожаю. У меня огненное сердце. Я сделаю огромный макет и подожгу его. Ты увидишь, как оно пылает страстью. Тебе должно понравиться.
И я собираю дрова, которые утром, разгорятся до самого неба. Я леплю гигантское сердце.
Помню, мы сидели вдвоем. За окном было пасмурно, шел дождь. Твоя голова лежала на моих коленях. Я перебирал твои волосы, как струны арфы, время качалось на маятнике жизни. Ты что-то промурлыкала и уснула. Мне нужно было уходить, но я не мог тебя разбудить. Я даже не смел шевельнуться, просидел так до самого утра, и с трудом передвигая затекшими ногами, ушел. Я думал, тогда, как же мне всем объяснить, где я провел ночь. Если рассказать правду, то никто не поверит, что я был у тебя, и мы не переспали. Люди верят тебе, когда ты говоришь, что одновременно спал с тремя девушками, и не верят, когда говоришь, что был с девушкой, но у вас ничего не было. Странные они, люди. Верят, в то, что на луне есть люди, но не верят тому, что ты там родился.
Приготовления закончены. Осталось не проспать, и не забыть положить перед макетом спички. Дует несильный ветер, мне становится холодно. Я захожу домой, беру початую бутылку вина, забираю с собой. Сажусь на тот же камень. Небо начинает светлеть. Слабые лучи едва лишь пробиваются сквозь плотную ткань ночи, но еще немного, ткань начнет рваться, она будет трескаться по швам, рождая для Земли новый портрет. Я делаю глоток, еще один, третий. Когда много пьешь, вкус притупляется, вино уже не вызывает во мне радости, но нужно согреться. Жаль, что у меня нет с собой ниток, я бы зашил небо, звездный сюртук мне нравится больше. Тогда бы ночь никогда не заканчивалась, и я бы мог охранять твой хрупкий сон несколько тысячелетий, пока Господь был бы занят остальным человечеством и не замечал бы нас. Ты отдохни, ты ведь так устала, я знаю, что со мной непросто. Ты спи, и пусть тебе приснятся песни Кашина, ведь ты их так любишь.
Был звездный вечер, похожий на сегодняшний. Ты была немного грустна. Горел камин. Луна, вино, подоконник. Я взял гитару и начал играть. Пару своих песен, просто чтобы распеться, затем «Город», «Настя», «Просветление». Ты подпевала мне, мне нравится твой голос, черт возьми, мне все в тебе нравится. Огонь трещал в камине, настраивая на минорный лад. Из огня возродилась птица Феникс. Как-то я спросил тебя, с чем у тебя ассоциируется боль, ты сказала - с огнем. Значит, Феникс постоянно страдает от боли, значит, Феникс и есть одна большая боль.
Иисус творил людям добро, излечил десятки больных, кого-то даже воскресил, а его взяли и распяли. Странная у нас, все-таки, планета. Жанну Дарк сожгли на костре, чтобы затем, спустя сотни лет, рассказывать о ее героизме, снимать о ней фильмы, писать литературные произведения. Зачастую человек становится почитаем только после своего ухода. Ты творишь, пока жив, а воздается тебе в твое отсутствие. Понимаешь, насколько сильно любишь человека, удалившись от него или потеряв его совсем, расстояние – как проверка на прочность. Разве это все справедливо?
Когда я играл, я знал, что близок к тебе, как никогда, что сейчас мне прощается все, и испорченное настроение, и идиотские шутки, и постоянные жалобы и замечание, и даже неумение любить достойным тебя образом. В тот вечер мне прощалось многое. Я чувствовал, как переплетаются наши нити, которыми связал нас всевышний.
Неожиданно я понимаю, что сейчас мне хватает твоей сказки. Про Алису. И плевать, что не ты ее писала, все равно – для меня она твоя. И я забираюсь в дом, беру «Алису в стране чудес», включаю лампу и читаю:
«Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай Мартовский Заяц и Болванщик, между ними крепко спала Мышь-Соня. Болванщик и Заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову.
- Бедная Соня, - подумала Алиса. - Как ей, наверно, неудобно! Впрочем, она спит - значит, ей все равно.
Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали:
- Занято! Занято! Мест нет!
- Места сколько угодно! - возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола.
- Выпей вина, - бодро предложил Мартовский Заяц.
Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок.
- Я что-то его не вижу, - сказала она.
- Еще бы! Его здесь нет! - отвечал Мартовский Заяц.
- Зачем же вы мне его предлагаете! - рассердилась Алиса.
- Это не очень-то вежливо.
- А зачем ты уселась без приглашения? - ответил Мартовский Заяц. - Это тоже невежливо!»
И я впервые за последние несколько часов смеюсь. Смеюсь, искренне, как ребенок. Твои сказки лучше! Но солнце уже заглядывает в окно. Нужно торопиться, пока ты не проснулась….
Нарисуй мне небо
На моем окне,
Где бы солнце нежно
Улыбалось мне
Спасибо Павлу Кашину.
Глава четвертая «Заноза» (Найк Борзов -2002 г)
С кругами под глазами
В кромешной темноте
Я осторожно, мелкими шагами
Доверился тебе.
Найк.
Если человек слушает Найка Борзова, значит, у него депрессия. Не всегда, разумеется, но зачастую, причина именно в этом. Тебя регулярно одолевали депрессии. Сколько тебя помню, ты, чуть ли не ежедневно, впадала в это жуткое состояние, запиралась у себя в комнате, включала музыку и лежала на диване, уставившись в потолок или в одну точку противоположной стены. Ты плакала, не хотела никого видеть, максимум общалась в «аське», пила водку, коньяк, либо что-то другое, каждый раз повторяя, как сильно ты устала, и что все тебе надоело.
Я не знал, как бороться с твоим состоянием, кусал локти от злости, уходил с друзьями, оставив тебя наедине с пессимистическими мыслями, напивался в ноль, писал тебе смски о том, что мир прекрасен, тем самым усугубляя сложившееся положение.
Депрессии проходили сами собой, скоро, но ненадолго. День, два (максимум неделя) – и все повторялось. Музыка, слезы, алкоголь. В такие минуты я любил тебя с невероятной силой, пытался спасать, но ты все сильнее вязла в болоте глубокой депрессии.
Я, конечно же, просыпаю все на свете, и завтрак в постели, и сюрприз с сердцем. Увлекся чтением, да так, что не заметил, как уснул, а раз попал в объятья Морфея, то он запросто никого не отпустит. Будит меня голос Борзова, раздающийся чересчур громко – колонки включены на максимуме.
Что-то проникло сквозь панцирь сосуда
Может быть это вирус оттуда
Что-то внедрилось в мое подсознанье
Больно, волнительно, страшно...
Переворачиваюсь на бок – не хочу сейчас пробуждаться. Ты щипаешь меня, собака лижет ногу – двойная атака.
- Проснись и пой, зануда.
- Я спать еще хочу – бурчу я поднос.
- Не обсуждается. Сэта нужно выгулять. – И собака снова лижет мне пятку.
Пересиливаю себя. Улыбаюсь новому дню. Поднимаюсь с постели, ты суешь мне поводок и выталкиваешь на улицу. Сэт погоняет меня вперед – того и гляди – обделается. Видать, я немало поспал. Нужно ослабить поводок, иначе собака задушится.
Перед выходом успеваю заметить, что от вчерашнего веселья не осталось и следа. Два одиноких шарика (кстати, те самые) болтаются под потолком, остальных же и след простыл. В раковине гора посуда, в комнате прибрано, к рисунку на стене добавилась фигура девушки, у которой вместо головы, почему-то, аквариум. Ты помыла голову, волосы убраны в хвост. Кажется, что ничего не предвещает бури.
Я смотрю, как испражняется Сэт. У него, должно быть, гигантский мочевой пузырь, за одну прогулку, он выливает из себя минимум пол литра. Вот и очередной куст не остался без его внимания. Я замечаю вчерашний макет. Вижу, что получился он отвратительно, вчера я этого не разобрал – пьяный, расчувствовавшийся, темно. Все равно нужно будет дождаться ночи и поджечь его для тебя, в темноте будет выглядеть эффектно. С этой мыслью захожу в дом. Ты сидишь на подоконнике, куришь, Борзов надрывается. Чую что-то неладное. Мою лапы собаке, ты наблюдаешь молча, отпускаю – несется, как саранча, на кухню. Ты называешь Сэта любимым мужчиной, а ему ничего больше не надо – только набить потуже брюхо и повалиться спать. Когда он видит еду, то оживляется, начинает попрошайничать, а глаза округляются и становятся такими жалостливыми, что только редкостная скотина не посмеет бросить ему кусочек колбасы или мяса.
Но бесконечный голод Сэта сейчас волнует меня меньше всего. Я подхожу к тебе, хочу взять за руку, ты отворачиваешься. Пытаюсь обнять.
- Уйди! – Звучит в ответ. Внезапная смена настроения. Этого следовало ожидать, но на деле, она, как всегда, неожиданна. Я, конечно, никуда не ухожу. Ложусь на диван, пытаюсь уснуть. Борзов не дает.
- Сделай потише. – Прошу ласково, как будто ничего не случилось.
- Ага, счас… - Тебя это раздражает. Я совершенно не догадываюсь, что произошло, потому и задаю следующий вопрос:
- Что случилось? Я что-то не так сделал?
- Да пошел ты! – Вот твой ответ.
Но я никуда не иду, и не собираюсь. Уходишь ты, в другую комнату. Я вижу, как вздрагивают твои плечи. Плачешь. Ты часто плачешь, но что я сделаю? Чувствую себя неловко, но у меня нет уверенности, что причина слез – я. Может, тебе трудно осознавать, что я идеал, может, ты расстроена, что утратила веру в себя. Накрываю подушкой голову и проваливаюсь в сон.
Мне снятся арбузы. Сочные спелые арбузы. Я выбираю один, расплачиваюсь за него, приношу домой, взрезаю. Из арбуза начинают выползать змеи. Я с детства боюсь змей, во всех моих кошмарах в дом забирается гадюка, или питон, или кобра, и начинают охотиться за мной, я пытаюсь от них спрятаться, но куда там: находят, кусают, душат. Вот и сейчас, ползучие (пусть и маленькие) прыгают на меня, начинают кусать. Я выбегаю в соседнюю комнату и вижу там тебя. Ты стоишь в свадебном платье, улыбаешься мне, я подхожу к тебе с целью поцеловать, ты на меня не дуешься, и, значит, нужно подсластить момент. Вытягиваю, как последний ненормальный планеты, губы в трубочку и… Мои глаза каменеют от ужаса. Я вижу, как из-под твоего платья выползает ядовито-желтого цвета змея.
Я просыпаюсь. Тело покрыто крупными каплями пота. Я слышу Борзова.
Перерезая горло своё,
Ты вспоминаешь о том, что есть я,
И при этой мысли всегда
Из под юбки твоей выползает змея.
Нужно рассказать тебе о сне. Я всегда сообщаю тебе, если ты мне снишься. Первые две секунды, я жду, что противная ползучая тварь появится передо мной и станет на меня накидываться. Затем я понимаю, что сон окончен, а на нашем острове мне не встречалось ни одной змеи. Ящерицы были, змей не видел. Я иду в соседнюю комнату, тебя там нет. Заглядываю в другую, в третью – никого. Значит, пока я спал, ты ушла из дому. Следует тебе искать на берегу. Наверняка, сидишь с бокалом коньяка, смотришь на сменяющие друг друга волны, в ушах беруши.
Беру плед – вечером на море зябко. А ты, конечно, как всегда, мерзнешь и не взяла с собой ничего теплого. Греешься выпивкой, но на спиртном далеко не уедешь. Нахожу тебя на том же месте, где сидел вчера сам. Как и предположил – в руках коньяк, наушники, сигарета. Я уже просто видеть их не могу, хотя вчера курил сам. Нужно будет спрятать их от тебя, хватит губить здоровье. Подсаживаюсь к тебе, ты встречаешь меня холодным взглядом, накидываю тебе на плечи плед. Вся продрогла, значит, давно уже сидишь. Сколько же я проспал? Ощущаю дикий голод, неплохо бы подкрепиться, но не сейчас.
- Что это? – Рука тянется к макету.
- Секунду подожди. Сейчас узнаешь.
Срываюсь с места, подбегаю к макету. Спичек нет. Видимо, забыл вчера приготовить. Секунда на размышление. Возвращаюсь обратно:
- Дай зажигалку.
Протягиваешь. Через мгновение макет загорается. Пламя вздымается вверх. Макет разваливается, не прогоревши и наполовину. Сюрприза не вышло. Через десять секунд на песке тлеют угли. Возвращаюсь к тебе. Вопросительно смотришь на меня.
- Технические неполадки. – Неловко улыбаюсь. – Ночью готовил тебе сюрприз.
Молчим. На небе появляются звезды. Скоро будет совсем темно. Пересчитываю окурки, упавшие на песок. Семь штук.
- Видел тебя сейчас во сне…
- Что снилось?
Пересказываю сон. Ты говоришь, что глупо бояться змей. А вот белое платье на тебе – не нравится и настораживает тебя. Потом вспоминаешь и добавляешь:
- Я же не разговариваю с тобой. - И отворачиваешься.
- Но мы уже разговаривали. – Возмущаюсь я.
- Ну и что. Все равно не разговариваю.
Уж я-то знаю, что нам предстоит долгий и обстоятельный разговор. Стоит только подождать. Пару мгновений.
В голове, почему-то, возникает стих Николая Гумилева. «Жираф».
«Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв…»
И так далее. Скольким девушкам я читал этот стих, а тебе ни разу. Тебе я вообще не читал стихов. Никаких. Никогда. Даже своих, хотя мои не вызывают у тебя особого воодушевления. Меня распирает, рвет на части, мне хочется прочесть тебе Гумилева. Ты не знаешь, как я хорошо рассказываю его стихи. Мной прочувствовано каждое его слово, каждая запятая, каждое многоточия. Мне стоит невероятных усилий не начать читать. Вместо этого произношу:
- Что с тобой происходит? Ты ничего мне не рассказываешь.
- А ты хоть раз интересовался?
- Вот сейчас интересуюсь. И потом я спрашивал несколько раз, ты сказала, что меня не должно этого волновать. Но это не может не волновать меня, я же люблю тебя.
- Что-то незаметно. – Ты закуриваешь очередную сигарету. – Ты, по-моему, кроме себя ничего больше не замечаешь, ни о ком не думаешь. Ноешь только постоянно, и не хочешь ни фига меняться.
- Ты такая же.
- Нет, мы разные. Я, по крайней мере, борюсь с этим. Я была абсолютно другой.
Я начинаю злиться:
- Только не говори, что это я тебя такой сделал.
- Ты? – На твоем лице появляется усмешка. – Да ты обед приготовить не можешь, не то, что… Я трачу на тебя лучшие годы. Готовлю, стираю тебе, как сорокалетняя тетка. Ты меня даже не водишь никуда.
Я осматриваюсь по сторонам – море, песок, лес, хижина.
- Куда ты хочешь, чтобы я тебя сводил?
- Да ну тебя….
Помню, мы любили играть в бильярд. Я игрок неважный, а ты прилично играешь, особенно, когда у тебя идет игра. Ты учила меня бить, подсказывала. С твоих подсказок почти всегда загонял шары в лузу. Иногда сам, неведомо каким чудом, забивал, казалось бы, нелогичные шары. Ты постоянно выигрывала меня. Мне так хотелось одолеть тебя, но я не мог. Не смог ни разу.
Мы раскатывали несколько партий, затем ты обычно говорила, что тебе надоело играть. Мы уходили. Я навеки побежденный, ты навеки победившая. Вскоре тебе надоела совсем эта забава. Больше мы ни во что не играли.
- Но мне, правда, важно знать, что тебя беспокоит.
- Ты не слышишь меня. Ты никогда не слышишь меня и не понимаешь. И психолог ты фиговый, такое чувство, что со стеной разговариваю.
- Стены не умеют любить.
- Ты тоже….
Твои слова повисают надо мной, они кружатся, как огромные черные вороны, каркают, клюют в лицо, бьют черными крыльями. Я зажмуриваю глаза, чтобы ничего этого не видеть, и тогда в тело мое вонзается заноза:
ТЫ НИКОГДА НЕ СЛЫШИШЬ МЕНЯ И НЕ ПОНИМАЕШЬ!!!
Она будет жить во мне вечно. Действительно, нужно меняться, нужно более позитивным, как можно позволять себе страдать, если рядом ты? Черт, я ведь, и в самом деле, слишком невнимателен к тебе. Любовь, когда любят двое, а я только требую от тебя, ничего не давая взамен. Любовь – это взаимопонимание, а ты утверждаешь, что я тебя не понимаю.
Помню, что обещал всюду прославлять твое славное имя. Игра в Дона Кихота у меня с детства. Обещал поставить тебе 53 памятника. Откуда взялась именно эта цифра сказать затрудняюсь. Вероятно, это было так. Когда я делал что-либо неплохое и указывал на это, ты одобряла это восклицанием «Маладец!», я же в ответ на твои достижения обещал поставить тебе памятник «за заслуги перед отечеством». Так их набралось 53. Да, давно это было, теперь даже сомневаюсь в достоверности этого факта.
Значит, я не умею любить. Отлично. Не медлю с ответом:
- Ну, убей меня, раз я такая скотина…
Убей меня так, чтобы смерть как болид
Прорезала тьму мозговую, играя
Убей меня так, чтобы я был убит
Убей меня ты, я Тебя выбираю
- Вот еще, – фыркаешь ты, - мучайся.
- Ну, и буду.
- Будь.
Я встаю и ухожу. Нужно осмыслить все, что услышал. Останавливаюсь:
- Долго не засиживайся – замерзнешь.
- Обойдусь без советов.
Сплюнув, иду дальше. Когда грустишь или злишься, звезды бледные, когда радуешься – горят ярче. Знаю, ты осталась одна, снова плачешь, дуешься на меня, в сотый раз решаешь, правильно ли это было – выбрать меня, считаешь, что я тебя бросил. Но мне тоже не легко с тобой. Я тоже искал понимания, но мы разные, хоть у нас и много общего. Мне тяжело подстраиваться под тебя, когда ты меняешься. Если не делать этого, то на меня полетят упреки, что мне совершенно плевать на тебя, что я сам по себе, а мы, все-таки, живем вместе.
Я не имею право погрузить себя в депрессию. Ухожу все дальше в лес. Удаляюсь от тебя, нужно возвращаться, а то, ты, и вправду, замерзнешь в одиночестве. Выхожу на поляну, а она усыпана цветами. Бог мой, я лет двести не дарил тебе цветов, а следовало бы это делать каждое утро. Для кого они растут, если только мы их и можем видеть? А я лишаю тебя и этой радости. Собираю букет. Думаю, тебе понравится. Поставлю в вазу, комната наполнится запахом полевых цветов. Ты сменишь гнев на милость, льдина депрессии растает, стена непонимания рухнет, все будет, как пел Павел Воля, «Офигенно». Мечтатель….
Ты вернулась в дом. На берегу тебя нет. Число окурков увеличилось до девяти. Вижу следы твоих босых ног. Домой ты не торопилась. А вот мне следует поторопиться, или ночевать придется на песке, а я хочу на кровати, рядом с тобой.
По дороге готовлю фразу, уже и не помню, как дарить цветы. Просто протянуть – хуже не придумаешь. Что-нибудь ввернуть эдакое, чтобы ты поняла, что дорога мне и простила. Но в голове бардак. В результате – рождаю фразу: «Мадам, это вам!». Сногсшибательно выдумал. И так каждый раз.
Ты стоишь возле раковины, моешь посуду. Становлюсь поодаль от тебя, начинаю.
- Я тут гулял немного.
Ты молчишь, не оборачиваешься.
- Думал над твоими словами.
Никакой реакции.
- И вышел на поляну. А там цветов видимо-невидимо. Я и собрал их для тебя.
Протягиваю букет, не берешь. Кладу рядом, отодвигаешь, домываешь последнюю тарелку, спрашиваешь:
- Ну, и что ты надумал?
- Я тебя люблю!
- Неужели?
- Представь себе.
- Плохо представляется.
Ты делаешь шаг, чтобы уйти. Я останавливаю тебя. Ты отдергиваешь руку. Я прижимаю к себе, целую. Странно, но ты уже не сопротивляешься. Поцелуй длится минут двадцать или чуть больше. Ты крепко обнимаешь меня и начинаешь плакать мне в плечо. Я глажу тебя, как ребенка, по голове.
- Все нормально, солнышко, все будет хорошо.
Терпеть не могу все эти, «солнышки», «рыбки», «лапочки», «кошечки», однако сейчас не могу без них обойтись.
- Прости меня, пожалуйста, я скотина, ты мне нужна, я не могу без тебя, ты – самое дорогое, что есть у меня в этой жизни.
- Дурак ты. – Говоришь ты уже ласково и добавляешь. – А цветы хорошо пахнут, нужно поставить их в вазу.
Ты уходишь за вазой, наливаешь в нее воды, ставишь цветы. У них, действительно, приятный аромат. Они добавляют уюта нашей комнате. Ты ставишь их на подоконник, включаешь Найка. Опять этот Борзов. Депрессия продолжается.
Позже мы лежим на диване, я обнимаю тебя, смотрю на подоконник, на цветы, они улыбаются мне. Теперь буду регулярно дарить их тебе. Твоя голова лежит у меня на груди, ты рассказываешь о том, как ненавидишь меня, когда я делаю глупости, когда невнимателен к тебе, но больше всего ты ненавидишь меня за то, что ты меня не ненавидишь вовсе. Я – скотина и подлец, - но ты любишь меня. Я слушаю тебя, понимаю насколько это важно тебе, но ничего не могу поделать с собой – думаю совершенно о другом. Мне хочется секса с тобой, бурного неповторимого секса, после которого не останется сил даже на изможденную улыбку, но это будет космически приятная усталость, близкая к состоянию эйфории. Я не осмеливаюсь перебивать тебя, поэтому молча начинаю ласкать твою грудь.
Говорят, что мужчины думают о половых актах с женщиной до нескольких тысяч раз в сутки. Так устроено наше сознание, что мужчине нужно обладать женщиной, и чем чаще и с большими он это делает, тем большее уважение он имеет среди других. А вот женщин, у которых было много сексуальных партнеров, презрительно называют проститутками.
Когда все окончено, ты тянешься за очередной сигаретой, мне тоже дико хочется курить, но я не стану – боюсь зависимости. Мозги еще плохо соображают, впрочем, как всегда.
Помню ты говорила, что у Борзова зримые песни, до знакомства с тобой я практически не слушал его и не обращал внимания – зримые они или нет. Теперь, когда я уже неплохо знаком с его творчеством, могу вполне с тобой согласиться, только в моей голове, почему-то, возникают другие образы, не те, что существуют в его песнях.
В сверхсекретном мире
Я живу уже много лет,
Я не существую,
Меня просто нет.
Я не вижу солнца,
Я не помню, как пахнет весна.
Грусть моя бездонна
И скорбь глубока.
Я вижу человека идущего, над пропастью. Под его ногами бушует водопад. На дне пропасти высокие острые камни. После каждого шага в воздухе остается отпечаток его ноги. Повисев немного, следы падают в пропасть. Человек одет в черный балахон, на ногах кеды. За спиной коса. Но это не смерть.
Человек распахивает балахон, под ним прячется белый голубь. Человек берет голубя левой рукой и подкидывает вверх. Тот усиленно машет крыльями и взмывает ввысь. Человек скидывает балахон, тот повисает в воздухе, коса падает в воду. Возвращаются на свои места следы. К ним добавляются новые – гораздо меньшего размера.
Человек становится прозрачным и растворяется в воздухе. На его месте прорисовывается женская фигура. Она одета в серый балахон, в руке держит луну. Девушка поднимает балахон человека, надевает на себя. В ее глазах видно пламя оранжевого огня. Огонь разгорается до огромного костра, внутри него переливается вода.
Девушка закрывает глаза. Темнота. В пустоте рождается море. Вода начинает неистово биться об стенки пустоты. На дне перекатывается роза. Один лепесток отламывается. Пустота растворяет в себе море, остается только это лепесток, который начинает кружиться, и, наконец, плавно опускается на дно пустоты.
Луна в руке девушки превращается в змею, девушка выпускает ее, змея ползет над пропасть. Девушка растворяется в воздухе, исчезают следы. Сверху сыплет крупный, как слезы, снег. Он кружится над пропастью, как облако белой пыли. Над снегом стеклянный колпак, выключается свет. Титры.
Песня закончилась. Ты что-то говоришь мне, но я, не слышу тебя. Я, словно, оцепенел, погрузился в увиденную мною песню и не могу оттуда выбраться.
- С тобой все в порядке? – Прорывается твой голос сквозь толщу воображения.
- Да. – С трудом отвечаю я. – Просто заслушался.
- Я хочу гулять.
- Сейчас?
- Нет. Завтра.
А ночь по неземному великолепна. Ее хочется рисовать, в нее хочется окунуться.
- Пошли – говорю, - Почему нет? Будем морские звезды собирать! Гербарий насушим.
И мы выходим. Я беру тебя за руку. Шлепаем. Я смотрю на небо, ты смотришь на море. Мы всегда смотрим в разные стороны.
Помню как-то (а было это часа в 2-3 ночи) тебя потянуло на природу. Повыть захотелось, прогуляться. Ты потащила меня на речку. Мы шли по полю, что-то громкое играло в твоих наушниках, ты неслась, как авианосец, я плелся сзади. Ты смеялась, подбадривала меня, говорила, что это поможет скинуть килограммы. Я не бузил, шел упорно вперед. Почти не бузил, просто не видел смысла тащиться на речку ночью. Но тебе так было нужно. Поле сменила лесопосадка, мы прошли и через нее, перешагнули рельсы детской железной дороги и оказались на берегу. Днем на эту реку смотришь с неприязнью: вода зеленая, дно илистое, полно камышей и зарослей, в них квакочат без остановки лягушки, максимальная глубина – полтора метра. Ночь обладает великолепным даром преображения. Глаз невозможно оторвать от реки, вода завораживает. Какое-то время мы любовались рекой. Потом ты решила, что нужно разжечь костер. Мы отправились искать дрова, бегали по посадке, выискивая чурки, тащили на берег. Для розжига использовали страницы из твоего блокнота и зажигалку. Огонь и вода – две стихии, постоянно борющиеся друг с другом, и жизненно необходимые человеку. Мы с тобой и есть эти самые стихии – по отдельности не можем существовать, но стоит приблизиться – может уничтожить друг друга. Вернее, вода уничтожит огонь, вода сильнее, она обладает свойством текучести, в таком состоянии она способна преодолеть все.
Мы слушали музыку, смотрели, как прогорают дрова, не разговаривали. Медленно подкрадывалось утро. Ближе к рассвету ты же замерзла. Я затушил костер и мы двинулись обратно. Ты снова едва не бежала по полю. Затем остановилась, и закричала, что есть мочи. Не выдержала.
Мы идем вдоль побережья. Море приятно шумит. Я наслаждаюсь его музыкой, ты слушаешь Борзова. Волны выносят на берег медуз, звезды, водоросли. Звезды я бросаю обратно. Гербарий нам ни к чему, а им положено жить в море. Я спрашиваю тебя:
- Душа действительно есть? Или человек – это только мешок с костями?
- Есть. – Отвечаешь ты не сразу.
- Но зачем тогда нам телесная оболочка? Для чего умирать, нельзя просто сразу жить в виде потока энергии?
Мы не разговариваем на тему религии. Почти никогда. Только упоминаниями. Ты писала работы по философии, изучала восточные религии, я тоже имею какие-то представления об этих вопросов, у меня есть собственные доводы. Я жду твоего ответа. Но его не последует. Ты не обеспокоена вопросами смерти, тебя интересуют вопросы жизни. Я же обеспокоен своим уходом. Каково это – больше не принадлежать этому миру? Сознание и душа – едины? Или это с различные энергии? Никто и не отвечал мне на эти вопросы. Ты тоже не станешь этого делать.
В этот момент меня впервые одолевает мысль, что ты уйдешь от меня, что ты уже сделала первый шаг к этому. Мне становится невыносимо больно от подобной мысли. Неужели это все может однажды закончиться? Неужели я когда-нибудь проснусь без тебя? Таково не может быть. Еще недавно мне казалось, что этом острове нет времени, здесь ничего нет, кроме нас, и что так будет продолжаться всегда. Мне казалось, что мы одолели все человеческие предрассудки, все материальное, что есть в этом мире, что мы пребываем в небытии, что этот уголок и есть наш честно вымученный рай. Ан нет, получается. Однажды тебе захочется чего-то большего, или все надоест, ты встанешь утром. Посмотришь, на сколько все здесь приторно, скажешь, что хочешь в мир нормальных людей и уйдешь, не сказав не слова. И что самое печальное я не смогу тебя удержать, да я и не стану этого делать.
В сердце мое вселяется печаль. Вот уж, право, не лучший сосед. Мы сидим спиной друг к другу, грустим каждый о своем, волны ласкают ступни. Может быть, ты тоже сегодня поняла, что все это может закончиться, может, решила, что это не рай. Я не знаю, я не хочу об этом думать, не хочу терять тебя. Мы держимся за руки, а значит, мы вместе. Рассвет.
Впилась занозой в сердце мое стрела Купидона.
Хочется вытащить, и никогда не думать об этом.
Боль нестерпима, и мне до сих пор была незнакома.
Солнце безжалостно выжгло глаза своим ярким светом.
Спасибо Найку!
Глава пятая «Треугольник» («Аквариум» -1981 г)
Что лучше - пена или дом,
Давай-ка вместе поразмыслим,
Тогда, дай Бог, все наши мысли
Исчезнут в небе голубом.
БГ.
- БГ – живой Бог! – Сказала ты.
- Да, - согласился я, - а буква «о» пропала за ненужностью.
У меня БГ ассоциировался прежде всего с фильмами Сергея Соловьева. Я не назвал бы себя ярым поклонником его творчества, а вот ты, напротив, души в нем не чаяла. Я даже ревновал тебя к нему:
- Ну, и выходи за него, раз он такой замечательный.
- Ерунду сказал, никогда бы не вышла за него. Я люблю его песни…
- А не его самого. – Продолжил я. – И что тебе в нем так нравится?
Твои глаза загадочно сверкнули, и ты ответила:
- Абсурд….
Абсурд. Да вся наша жизнь – абсурд. Куда ни глянь, что ни сделай, все будет насквозь пропитано этим загадочным словом. Словарь Ожегова дает ему такое определение – «нелепость, бессмыслица. Театр (драма) абсурда – течение в драматургии, изображающее мир, как хаос и поступки людей как алогичные, бессмысленные». Сколько нелепостей происходит с нами ежедневно? А сколько еще поджидает за углом? Ты и я вместе – уже звучит абсурдно. А Борис Борисыч яркий представитель театра абсурда, хоть и выросший на русских харчах, однако тяготеющий к культурам востока и солнечной Ямайки. Забавно, что даже банальная фраза: «Я люблю тебя» из его уст звучит совершенно иначе и обозначает нечто другое. Мне бы хотелось произнести эту фразу «по-бгшному», знаю точно, что ты обрадовалась бы этим словам.
Широко трепещет туманная нива,
Бароны спускаются с гор.
И два тракториста, напившихся пива,
Идут отдыхать на бугор.
Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане
И этим сознанием горд.
Другой же играет порой на баяне
Сантану и Weather Report.
Я нашел тебя на холме, ты сидела в позе лотоса – медитировала на восходящее солнце. В руках у меня был крюк. Ты попросила его принести, для чего – я не знал. А он тяжелый, собака. Крюк положил на землю, а сам уселся рядом с тобой.
Люблю смотреть, как ты медитируешь, на твоем лице застывает блаженная улыбка, в алые губы так и тянет поцеловать; если ты не улыбаешься, то над переносицей появляется морщинка – признак сосредоточенности. Люблю солнце, оно, как и батарея, греет, но батарея – продукт труда человеческого мозга и рук, а солнце появилось независимо от людей и служит символом всего живого. Люблю солнце за то, что когда начинаешь смеяться, оно смеется с тобой. Батареи умеют смеяться? Однако, Икар тоже любил солнце, да и черт с ним, это было тысячи лет назад, и то - в мифах. Люблю сидеть рядом с тобой, мечтать о том, чтобы взять тебя за руку, нарисовать на ладони примус или чашку зеленого чая. Люблю, когда ветер шевелит волосы, твои и мои, когда деревья качаются от его дыхания. Люблю, когда синее небо чертит белые круги удовольствия на своем просторном, воздушном полотне. Люблю созерцать мир, сидя на вершине этого самого холма, осознавая одновременно величие и ничтожность человека. Больше всего я люблю, когда это все происходит одновременно.
Не открывая глаз, ты спросила:
- Принес?
Я ответил:
- Так точно. Зачем он тебе?
- Увидишь.
- Ну, и тяжеленный, - Пожаловался я, но ты уже не слушала.
- Эээээй. – Протянул я, да где там, тишина. У тишины волшебное звучание, но стоит только задуматься, и оно исчезает. Я вынул из кармана пакетик светлого пива и стал потягивать. Ты пребывала в нирване. Это твоя особенность – туда уходишь редко, но надолго. Сперва я услышал плеск волн и крики чаек, затем шум уходящего трамвая. Мне вспомнилась «Алиса в стране чудес», показалось, что вот-вот и из-за угла выскочит кролик, взглянет на карманные часы, ойкнет и убежит, за ним промчится шалтай-болтай, постоянно, спотыкаясь и сваливаясь с ног, за ним в облаке густого дыма раскумаренная гусеница, одна лапа Чеширского кота, вторая, хвост, улыбка. Все они начнут кружиться передо мной, и, словно заклинание, будут твердить:
- Глум алалы эй.
- Эй, ты спишь? – Услышал я твой взволнованный голос. Перед глазами прыгал шалтай-болтай, пропел: «Глум алалы эй», споткнулся и растворился в воздухе.
- Нет. – Улыбнулся я.
- Хорошо. Слышал песню «Крюобразность»?
- Чья?
- Ууууу. – Твой взгляд топил меня в презрении.
- Судя по названию, предположу, что это БГ. Такую не слышал, ты же знаешь, что я равнодушен к БГ.
- Ну, и зря.
- Так, что там?
- Что? – Я чувствовал, как ты начинаешь злиться.
- В песне этой что?
- Уже ничего.
Я выпил немного пива и предложил тебе:
- Будешь?
- Почему в пакетике?
- Надоело бутылочное. Теперь оно пакеточное. Здорово?
- Нет.
Ты коснулась крюка указательным пальцем, прищурилась и произнесла:
- То, что надо.
- Так вот, почему крюкообразность? – Догадался я.
- Да нет, просто вспомнила. Утром БГ слушала, мой любимый альбом. Там еще другая песня – «Корнелий Шнапс» - очень забавная. За что люблю БГ у него всегда имена такие нелепые. Корнелий Шнапс – надо же было придумать.
- Подумаешь, я тоже так могу, - обиженно произнес я, - Вергилий Шпротов.
- Не смешно.
15 секунд на борьбу с обидой, и я продолжил:
- И чего этот Корнелий Шнапс?
- Послушай. – И ты включила
Корнелий Шнапс идет по свету,
Сжимая крюк в кармане брюк,
Ведет его дорога в Лету,
Кругом цветет сплошной цурюк.
- Поняяятно. – Протянул я, хотя сам ничего не понял.
- Я подумала, что будет забавно…
- То есть я – Корнелий Шнапс? – Перебил я.
- Ты – зануда. – Улыбнулась ты.
- Очень приятно. Значит, я неинтересный.
- Не гони, а…
- Ну, конечно, что во мне интересного? - Начал распыляться я. - То ли дело Корнелий Шнапс, у которого крюк в брюках, вот он настоящий оригинал, золото-человек.
- Прекрати.
- Буду Вергилием Шпротовым – неинтересным человеком с несмешной фамилией, которую с таким трудом выдумал.
- Еще раз повторишь, и я брошу тебя.
Но думаешь, мне легко было остановиться? Как бы не так. Да и тебе не так-то просто расстаться со мной.
- Пень, зануда, нытик, «уйди фашист» - и все это я.
- Господи, какой же ты дурак. Я точно брошу тебя.
- Пень.
- Я брошу тебя.
- Зануда.
- Я брошу тебя.
- Ныыыыыыыыыытик. – Это слово я специально растягивал – так оно звучит правдоподобней.
- Я брошу тебя.
- Уйди фашист.
- Я брошу тебя.
- Дурак.
- Я БРОШУ ТЕБЯ.
- Ябет ушорб я. Если перевернуть наоборот – то получится именно так. – Я, почему-то, действительно, начал видеть все наоборот: твои слова, небо, в которое проваливался наш холм, я, ты, пиво, которое засасывало меня, хотя должно было само раствориться в моем желудке. Я слышал, как скрипки, начали играть мелодии с конца, чуть поодаль две овцы бежали задом наперед.
- Ябет юлбюл я! – Сказал я, наблюдая за тем, по земле катался шалтай-болтай и радостно кричал:
- ЙЭ ылала мулг!
Хочу я стать совсем слепым
И торговаться ночью с пылью.
Пусть не подвержен я насилью,
И мне не чужд порочный дым.
Я покоряю города
Истошным воплем идиота,
Мне нравится моя работа.
Гори, гори, моя звезда!
Ты тянула меня за руку:
- Ну, идем же, чего ты так плетешься?
Я был спросонья и плохо соображал. На мне был престранный наряд: высокие сапоги, брюки из страусиной ткани, белоснежная сорочка, на голове – цилиндр, в руках – монокль. Ты была одета в свадебное платье, на ногах – высокие кожаные сапоги, довершала твое одеяние белая врачебная шапочка. Фаты у тебя не было.
- Не плетусь, а иду, только медленно, - возразил я, потому что не знаю, куда ты меня тащишь. И вообще, я спал.
- Соня.
- ррррррр.
Какое-то время мы шли молча. Из твоих наушников доносилась музыка. Я попытался разобрать, что это было, прислушивался, задерживал дыхание, но так и не добился положительного результата. Наконец, я не выдержал и заговорил первым:
- Ни разу не держал в руках монокля. Где ты его взяла?
- Секрет. Что, не нравится?
- Почему же? Очень даже ничего. Выглядишь шикарно.
- Спасибо. Ты тоже. Тебе повезло, что не нашла панталоны.
- Слава тебе, всевышний. Мне и сорочки выше крыши. – Я сложил руки и посмотрел наверх, будто, действительно, благодарил Господа. – Куда мы идем?
- Не скажу.
- Я устал.
- Вот и будет тебе польза – жирок сгонишь.
- Я что толстый?
- Нет, ни дать ни взять Аполлон.
- Я - упитанный в меру. – Недовольно заявил я.
- В меру обстоятельств. Не ной. Почти пришли уже.
- У тебя глаза удивительные. – Неожиданно заметил я.
- Спасибо. Всегда такие.
- А идиотизм – это болезнь?
- Образ жизни.
Я остановился. Вырвал свою руку и спрятал за спину:
- Знаешь, я не пойду дальше.
- Не глупи.
- Нет, правда, мне почему-то захотелось остаться здесь. Видишь, какая луна? Она с ненавистью смотрит на меня.
- Ты мужик, в конце концов, или кто?
- Я – Аполлон, - сама ведь сказала.
- Сказала. Вот и веди себя соответствующе.
Я взглянул на тебя через монокль. Он искажал действительность, однако даже его стекло не могло испортить твою красоту. В подвенечном платье ты была чертовски привлекательна.
- Могу забрать свои слова.
- Не надо. Буду Аполлоном, раз так надо. Это платье тебе идет. Очень. А в лунном свете ты так очаровательна, что я и впрямь готов выйти за тебя.
- Жениться.
- Что? – Не понял я. – Тьфу ты, вечно путаю – жениться, замуж. Да, я готов жениться.
- Решил завалить меня комплиментами? Смотри, могу ведь согласиться.
- Буду только рад. Соглашайся, крюк у меня уже есть.
- А мыло?
- Мыло в магазине купим.
- Арбузное?
- Хоть сливовое!
Мы взялись за руки и двинулись дальше. Где-то рядом шумело море. В нем отражалась луна. Она лениво покачивалась на коротких волнах, дробилась, раскалывалась, подобно мозаике, собиралась вновь. Из воды торчал одинокий риф. Он был огромен и нелеп и в воде выглядел несуразно. Ты взглянула на него и произнесла:
- «Корабль Уродов».
- «Летучий Шотландец».
- Почему?
- Не знаю. – Пожал я плечами.
- Вон, смотри, нам нужно туда. – Ты указывала наверх, откуда из темноты торчало непонятное мне сооружение.
- Что это?
- Фарфоровая башня.
Я пригляделся и увидел, что башня имеет форму огромной чаши.
- В ней живет начальник.
- Какой?
- Начальник Фарфоровой башни. Неужели непонятно?
- Не очень. И что это за начальник?
- Обыкновенный. С розгами и «часами на длинном ремне». Еще у него есть несколько пушек, но он никогда из них не стреляет, поскольку расходует порох на другие нужды.
- Например?
- Например, дорожки посыпает вместо соли, чтобы снег таял, и скользко не было.
- Но и здесь и так нет снега.
- Поэтому и нет.
- А он нас пустит?
- Он спит давно. Сами пройдем – никто не побеспокоит.
- Неловко как-то, - Хотел я было поломаться, но ты перебила:
- Пошли.
Начальник фарфоровой башни
Часами от пороха пьян.
Жрецы издыхают на пашне
И с голода бьют в барабан.
А он, полуночный мечтатель,
С часами на длинном ремне,
Все пробует розги на чьем-нибудь мозге
И шлет провожатых ко мне.
Мы поднимались по ступенькам, пока не добрались до самого верха. Там было небольшое окно, мы сели возле него на полу.
- Что будем делать? – Поинтересовался я.
- Можешь помолчать?
- Могу. А надо?
- Да!
- Хорошо. Только я долго молчать не могу.
- Я, кажется, тебя попросила уже.
- Да-да, конечно.
Я встал, прошелся по комнате. На одной из полок стоял кувшин. Я взял его и два стакана. В кувшине оказалось вино. Я разлил его по стаканам. Ты, молча, смотрела в окно. Вино и ты – что могло быть прекрасней? На столе стояли шахматы, партия была не закончена.
- Смотри! – Наконец, воскликнула ты.
Я взглянул на небо, и понял, чего ты так ждала. Рождалась новая звезда, и мы были тому свидетелями. Играла странная, неземная музыка, а мы целовались и танцевали, пили вино. Вскоре весь небосклон заискрился, звезды превращались в животных, птиц, рыб. Все они веселились по полной, пока не свалились на землю.
И я вдруг вспомнил эпизод из жизни. Мне было тогда лет пятнадцать. Еще чуть раннее я написал песню «Падающая звезда». Просто я впервые увидел, как падала звезд. Стоял на балконе и наблюдал, пока не сообразил, что произошло, затем вернулся в комнату и написал песню. Вот ее текст:
Было ли с тобою,
Выходил ли ты к прибою,
Отражала ли вода,
Как вниз падала звезда?
Как она сияла,
Ей небес казалось мало
И, впадая в пустоту,
Она дарила нам мечту.
Вот оно знаменье
В это божье воскресенье,
Нужно время не терять
И желанье загадать.
"Крыльями б взмахнуть,
Прямо к звездочке вспорхнуть,
С белого б начать листа… “-
Воспоют твои уста -
Вспыхнет звезда ярко,
Что аж сердцу станет жарко,
Было счастье, больше нет,
И краснеть начнет рассвет.
Как она сияла,
Ей небес казалось мало,
И, впадая в пустоту,
Она дарила нам мечту.
Когда мы были в Обнинске, от нашей делегации требовалась некая визитная карточка, мы, разумеется, не знали об этом. Готовиться - не было времени, поэтому мне пришлось выручать всех. Я попросил гитару, и спел эту самую песню. Кто-то даже похлопал, хотя пел я отвратительно. А на следующий день, одна девушка, остановила меня в коридоре и спрашивает:
- Ты, случайно, творчеством БГ не увлекаешься?
- Слушаю иногда – Зачем-то соврал я. Слушал я его крайне редко и знал не больше двух-трех песен, а у него их не меряно. Девушка удовлетворенно кивнула головой, улыбнулась и отошла в сторону. Секунду спустя я услышал, как она говорила своей подруге:
- Да вот, парнишка вчера песню пел – на раннего БГ похожа.
Я отчего-то так загордился этим, хотя понимал, что никакой БГ из меня не выйдет, да и не очень-то хотелось.
И вот я вспомнил этот случай. Ты про него не знала.
- Слушаю иногда. – Важно так сказал, мол, да что мне ваш Борис Борисыч? Мы и сами не лаптем сшиты.
А звезды нагулялись по земле и обратно махнули. Раз – и они уже на небе. Мы выбросили из окошко монокль и смотрели, как он долго падал на землю. Ты сняла шапочку и загрустила, а я показывал тебе фокусы, доставая из цилиндра, все, что ни вздумается.
У императора Нерона
В гостиной жили два барона
И каждый был без языка,
Что делать? - жизнь нелегка.
Иногда мы принимали гостей. Сэт вилял от радости хвостом, готовил свой самый жалобный взгляд, надеясь получить за него щедрое вознаграждение, ты же ругалась и запрещала гостям кидать лакомства под стол – он и так уже съел огромную порцию мяса. Но ведь и собакам нужны праздники.
Я открывал бутылку лучшего вина, затем вторую, третью. Играли Гайдн, Бетховен, Бах – у тебя давно страсть к классической музыке. Мы затевали беседу, потом в ход пускалась водка, далее вечер принимал размытую форму. Твои друзья, так же, как и ты, учились на лечфаке, это во многом определяло темы ваших разговоров. Я уходил в другую комнату, ложился на пол, чертил на стенах треугольники, расписывал их стихами и унылыми сказками. Иногда мы лежали вместе.
- Как же гости? – Спрашивал я.
- Ничего, не маленькие, сами справятся.
Мы умели с тобой, присутствуя, отсутствовать. Гости, и вправду, справлялись, а мы пили по очереди водку из горла, смотрели на огонь или включали «Даун Хаус». Однажды ты проиграла мне спор – ошиблась в точности цитаты, хотя обычно ошибался я, - после чего сказала, что больше не позволишь себе цитировать этот гениальный фильм. Действительно, долгое время я не слышал от тебя ни одной цитаты.
Вернувшись к гостям, мы сидели на кухне до тех пор, пока кого-нибудь не осеняла мысль, пойти на улицу встречать пароход. Я надевал тельняшку и шутовской колпак, брал в руки бинокль. Мне нравилось чувствовать себя матросом. Вообще, это приятно чувствовать себя кем-то помимо себя самого, кем-то, кем тебе ни за что на свете не придется быть. Чем больше ты пробуешь, тем интереснее жизнь. Мы стояли на берегу, ты держала в руках свечу, я смотрел в бинокль. Пили. Вино или водка – не было уже никакой разницы. Остальные следили за тем, кружились птицы. В бинокль я видел мир, он сужался до размера линз, его можно было перевернуть, разбить, выкинуть.
Затем начинались танцы. Я надевал фрак с неизменным галстуком-бабочкой. Мы кланялись друг другу и топтали мокрый песок босыми ногами. Устав, валились на землю.
- У тебя коса есть?
- Какая?
- Которой косят.
Мои глаза напоминали два вопросительных знака.
- Трава вымахала – нужно скосить.
- Во фраке?
- Почему нет?
- Завтра скошу.
- Завтра будет поздно, если оно вообще будет.
Позже возвращались домой, наливали в шарики воды, плюхали о потолок и жонглировали тарелками. Я разбивал больше всех. Посуда бьется к счастью. Когда все засыпали, мы сидели с тобой на кухне и разговаривали до самого утра, пока первые лучи не начинали стучать нам в окна.
- Что подарить тебе ко дню всех влюбленных?
- Велосипед.
- Понятно. – И на пол летела очередная уроненная мною тарелка.
- Кататься хочу, как в детстве….
И мы ложились спать. На полу. Ты засыпала у меня на плече, пока по небу гуляла радуга, а вечером был дождь, и мы просыпались….
Когда-то давно я пришел к выводу, что мир состоит из треугольников. Даже теорию выдумал, но вскоре забыл ее напрочь. Мне было приятно узнать, что в 1981 году группа «Аквариум» выпустила альбом «Треугольник», кстати, твой любимый из творчества БГ. Значит, хоть в чем-то мы мыслим похоже….
Еще один сентябрь - сезон для змей.
Мы знаем наш час - он старше нас.
Жемчужная коза, тростник и лоза,
Мы не помним предела, мы вышли за.
Спасибо БГ!
Глава шестая «Спасибо» («Земфира» -2007 г)
я вижу тебя
слышу тебя -
скажи мне свои тайны
и где тебя искать.
Земфира
Вслед за пением птиц я услышал шкворчание сковородки. Так болела голова, да и просыпаться совсем не хотелось: в постели было мягко, тепло, уютно, поэтому я не стал открывать глаза и вновь погрузился в приятную дремоту.
Мне снился я в образе самурая. Накануне я читал рассказы японских авторов. Может быть, сон связан с этим фактом, может, он ни с чем не связан, но знаю наверняка, что вещим ему стать было не суждено. Я ловко орудовал мечом, имел огромную физическую силу. Меня вызвал на поединок еще один самурай примерно моей комплекции. И вот, как только скрестились наши мечи, я, сперва, чихнул, затем открыл глаза, и долго смотрел, моргая, на потолок. Как это обычно и бывает – сон прервался на самом интересном месте. Я так и не узнал, кто победил в поединке. Пробовать уснуть в третий раз, было бы наглостью с моей стороны – стрелки часов давно перешагнули полдень.
Я встал, прошелся по комнате, остановился возле окна и обомлел: на улице шел снег. Я считал, что сейчас на острове лето, местный климат не давал ни малейшего повода к выпадению снега. Но факт остается фактом, и нечего себе голову ломать над тем, что стало его причиной. Я так давно не видел снега, а ведь я всегда его любил, любил и радовался ему, как ребенок, потому что снег – предвестник зимы, снег – это волшебство, снег – это, в конце концов, красиво.
Снег валил крупными хлопьями, которые были похожи на куски белоснежной ваты, которую кто-то сбросил сверху, и которая разломалась на лету перед тем, как свалиться на землю. Захотелось выбежать на улицу, покружиться немного, поймать снежинку на ладонь, еще одну на язык, а третью сохранить для тебя. Но снежинки, непременно, тают. Может, потому снег так и прекрасен, что его век недолог? Бабочкам тоже не дана долгая жизнь, но их красота стоит того, чтобы рано уйти.
Какая-то неведомая сила вытолкнула меня из дому, и, оказавшись на улице, я начал прыгать от, неожиданно охватившего меня, чувства радости и кричать что есть мочи какие-то нечленораздельные звуки. Прошло, наверное, минут пятнадцать, а я продолжал прыгать, как ненормальный, поймал ртом снежинку, съел, погладил себя по животу, словно съел мороженое. Потом я слепил снежок, подбросил его, поймал, еще раз бросил, но уже не стал ловить. Вот бы слепить снежную бабу, но снега катастрофически мало, и он тает.
Я дошел до берега. Ни разу не видел зимнее море. В детстве был два раза на море, но, разумеется, летом. Здесь, тоже не намечалось зимы, и вот – такая возможность. Однако, ничего удивительного не заметил, может, просто уже приелось взморье. Снег падал на волны, таял, вода, конечно же, не замерзла. Но вот песок, серебрившийся снегом, мне понравился. Он был похож на пустыню, в которой лежит белый песок, а не желтый, какой мы привыкли видеть на пляже. Я побродил немного вдоль побережья и решился вернуться домой.
Когда заходил внутрь, то сама собою посетила мысль: «Снег заметает следы». Отметил ее и отложил в сторону. Разжег камин, налил в стакан апельсинового сока, достал трубочку, решил пить медленно, с наслаждением. Закинув ноги на кресло, потягивал сок, достал газету, стал отгадывать сканворд. Тот оказался сложным, отгадал шесть слов всего, надоело, бросил, решил сделать бутерброд. С трудом заставил поднять зад с кресла, на пару секунд задержался у окна – снег продолжал идти, но уже с меньшим рвением. На кухне, пока возился с бутерами, включил музыку - под настроение. В Плэйлисте была Земфира, последний альбом.
пол неба гроза
пол жизни назад.
отдай мне свое сердце,
садись, и будем ждать.
когда снег начнется,
снег начнется….
Меня осеняет. Чего-то не хватает. Чего-то до боли близкого и знакомого. Оглядываюсь. Все стоит на своих местах, посуда помыта, камин горит равномерно, дрова приятно потрескивают, нигде не намусорено, но все равно что-то не так. Пять секунд на размышление, смотрюсь в зеркало, и тут из спальни выбегает Сэт. Ах, да, нужно выгулять собаку. Но все ли это? Нет. Ты! Неужели до сих пор спишь? Я слышал, как шипела сковородка, значит, ты готовила завтрак. Но завтрака я не нашел. И сковорода вымыта, лежит там же, где и всегда. Захожу в спальню – сватая святых. Она пуста. Ищу тебя всюду. Облазил весь дом – никого. Только я и Сэт.
Беру его с собой. Ему нужно облегчиться, и мне все веселее. Обходим побережье, заходим в лес, выходим на ту самую поляну, где растут цветы. Бедные, их припорошило снегом. Собираю еще один букет для тебя, но где ты? На острове не остается мест, куда бы ты могла пойти. Вернись, прошу тебя. Мне очень тебя не хватает. Еще нет повода для беспокойства, ты не могла покинуть остров, он совершенно необитаем, мимо него не проплывает ни один корабль, да и плот ты не могла построить. Может, ты гуляла, любовалась снегом, а теперь вернулась домой?
Сэт вьется возле ног, лижет руку, после вылизывает себя, после смотрит грустными глазами, облегчился – пора пообедать. Он начинает скулить, проситься домой, и не дает закончить мне мысли.
Будь что будет, беру букет и возвращаемся домой.
Открываю дверь. Тишина.
- Солнце, я дома.
Нет ответа. Сэт вихрем несется на кухню, просит еды. А у меня в горле застывает ком, дыхание прерывается.
- Солнце, ты где? – Выдавливаю из себя. Тебя нет. Мне хочется раствориться в боли, пока я еще окончательно не осознал этот факт, но пресловутая собака беспрестанно возвращает меня в этот мир полный несовершенства и обмана, уродливый и однообразный, странный, пустой мир, в котором нет тебя. А это значит, что и самого мира уже не существует для меня. Но что с него возьмешь, он всего лишь пес. Твой пес. Почему же ты оставила его мне? Или ты все-таки вернешься? А я ведь правильно почувствовал, что ты удаляешься, исчезаешь, но отогнал от себя эту мысль, как надоедливую муху.
Снег нужен был тебе. Он замел твои следы. Ты уже не вернешься. Но почему именно сегодня? За что мне это все? Разве это нормально, уйти, не сказав ни слова, безо всяких ведомых на то причин. Впрочем, на тебя это очень похоже. Я даже не могу обидеться на тебя, люблю, как ненормальный. Зол безмерно, но не на тебя. Кретин, отпустил, упустил, позволил….
Проспал собственное счастье. На такое я способен. Возможно, я и правда, не ценил тебя, а нужно было беречь. Может быть, тебе не хватало мужественности во мне. Да, скорей всего так и было, но я старался, мне нужно было немного времени и твоей веры в меня, и тогда бы я смог, тогда бы я стал тем, единственным человеком-бетоном, способным крошить и быть стойким. Тогда бы я, подобно скульптору вытесал скульптуру нашего счастья, нашей идиллии, тогда я ковал бы чувства к тебе, превращая их в мужество и внимание, так необходимые тебе. Но что об этом говорить? Песня спета.
Разумеется, я иду к холодильнику, открываю его. Там, что тоже абсолютно логично, лежит бутылка водки. Холодная с запотевшим стеклом, сама просится в рот, а ведь ни чем другим, кроме горькой, лучше не зальешь несчастье. Она потому и называется горькой, что помогает справиться с горем. И я открываю бутылку. И пью прямо из горла. Стаканы тут ни к чему. Сажусь на пол, прислоняюсь к стене. В камине дотлевают угли, на улице кружится снег, но ни что меня не радует, смотрю вперед и не вижу ничего, кроме твоего лица.
Делаю три глотка – два больших, последний - меньше. По телу расплывается тепло, становится так хорошо, я размякаю, делаю новый глоток. Я не хмелею, мне не нужно закусывать. Резкое жжение горла, несколько мгновений, и горькая уже гуляет по каналам внутренних органов, увлекая их собой, избавляя от боли. Черт возьми, я сейчас расплачусь, и Земфира в Плэйлисте - не случайность. Это ты ее вставила, знаешь ведь, что любая ее песня мне напомнит о тебе, у меня даже на твой номер стоит мелодия «Зеро» на звонке. «Зеро» - моя любимая песня, и, разумеется, про тебя. Каждое слово, каждая запятая, написанная Земфирой, о тебе. Мне иногда даже кажется, что вы знакомы с ней. Хотя любая девушка считает, что Земфира поет именно про нее. Ну, да бог с ними, с каждыми девушками, мне нужна только одна - та, которую люблю, которую выбрал из миллионов и которой отдал с потрохами себя, которой принадлежит мое сердце.
раз два три -
мое счастье не умри.
три четыре пять -
я иду тебя искать.
Я уже ходил, искал тебя, цветы эти дрянные притащил. Впрочем, они тут ни при чем, но хочется обвинить все и вся, потому что корить себя я буду еще долго. Что ж за жизнь такая, чтобы ни случилось – первым делом напиваемся. Хлещу уже вторую половину, если так и дальше пойдет, придется еще одну брать, но две бутылки я уже не осилю, да и не хочу.
Забыть обо всем, уснуть, а вечером проснусь, увижу тебя. Ты улыбнешься, скажешь:
- Ну, ты и поспать.
А я поцелую тебя нежно, как никогда. А после мы будем ужинать, устроим что-нибудь романтическое, выключим свет, будет играть красивая музыка, на столе будут стоять цветы, мы займемся сексом, ты будешь нежна и ласкова, а я войду в тебя и буду чувствовать каждую клеточку твоего тела, ты расцарапаешь мне спину, потому что ты не можешь не расцарапать мне спину в порыве страсти, потому что так было сотни раз, ты будешь извиваться подобно змее, я спрошу: «Тебе хорошо, любимая?», и ты, едва сдерживая дыхание, ответишь: «Хорошо» а после мы оба изможденные, но счастливые, лежа в кровати, будем смотреть на то, как солнце пробивается сквозь толщу облаков и, наконец, уснем, обняв друг друга.
Но даже мне не верится в это. Знаю точно, что ты не вернешься. Больно и горько осознавать это. Сэт медленно подходит ко мне, смотрит преданно, словно чувствует. Почему «Словно»? Конечно, он чувствует, ведь он тоже лишился хозяйки, которой был предан уже восемь лет, а это куда больше моего, я уж не говорю о том, что собачий год жизни равняется семи годам человека. Да, Сэт, плохо, нам с тобой, приятель. Беру его за лапу, глажу, и больше не в силах сдерживаться, плачу. Выкатывается единственная слеза, стекает со щеки и падает на Сэта.
Здесь все напоминает о тебе. Да и как может быть по-другому, если мы вместе создавали этот райский уголок, который, в конце концов, оказался причалом моих страданий и грусти. Я вижу твои рисунки. Слон. Он такой забавный, а ведь тогда я думал, что мы счастливы, что это навсегда, и ничего не сможет нас разлучить. Ты, словно показала, то чего я могу лишиться, и, решив, что я не достоин этого, а может, испугавшись чего-то сама, убежала в тот мир, откуда мы с тобой с таким трудом выбрались.
И я начинаю хаотично вспоминать все подряд, чтобы хотя бы воспоминаниями задержать тебя в этой реальности. Помню, как мы впервые обсуждали творчество Земфиры. Тогда я был холоден к ее музыке. Узнав тебя, я полюбил и Земфиру. Но поначалу я совершенно не понимал твоего восхищения песней «140», ты говорила, что, слушая ее, создается ощущение весеннего города, и от этого становится тепло и радостно. Я говорил, что Земфире далеко до Чижа, что ее могут слушать только пятнадцатилетние девчонки и Орлов (один мой хороший знакомый, пристрастия которого я не разделял). Мы не ругались, но ты явно была недовольна моими словами.
Мы говорили о человеческой красоте и о вкусе:
- Ты смотришь на внешность? - Недоумевала ты.
- Но ты в любом случае видишь сначала внешность, и только потом узнаешь внутренний мир. Мне хочется, чтобы рядом со мной был красивый человек.
- Разве внутренняя красота не важнее внешней? Если тебе хорошо с человеком, есть ли разница, как он выглядит?
Я раньше не задумывался над этим. У меня был определенный вкус, мне нравились миленькие, маленькие создания, и только за одни эти качества я был способен влюбиться в них. Их хотелось защитить, взять на руки, ласкать, воспитывать. С ними проще почувствовать себя большим и важным. Они были, как куколки, но зачастую, за милым и ангельским личиком скрывался неуправляемый монстрик, строящий козни на каждом шагу. Они были, как испорченные конфеты – разворачиваешь красивую обертку, а внутри сморщенное шоколадное месиво. От их глупости и капризов хотелось убежать. Они любили тусовки, обсуждали других девушек, постоянно думали о том, как выглядят, хотели куда-нибудь пойти покрасоваться.
- Черт возьми, да ты всегда лучше всех выглядишь, я, что, стал с тобой встречаться только из-за того, что твоя мордашка может с легкостью красоваться на обложке любого глянцевого журнала? Я хочу один день провести рядом с тобой, никуда не уходя, ни о чем не думая, просто обнимать тебя, целовать, любоваться тобой, и не делиться твоим совершенством ни с кем.
Я кричал это разным девушкам. Мне звучало в ответ, что я совершенно не забочусь о любимом человеке, страшный домосед, веду себя, как семидесятилетний дед и прочее.
И тогда я уходил. Так было не всегда. Иногда мы просто не сходились характерами, иногда совершенно не думали друг о друге. Я уходил от одной милой девушки, чтобы вскоре влюбиться, если уж не в ее копию, то, по крайней мере, соплеменницу. Я продолжал наступать на одни и те же грабли. И вот ты заставила меня задуматься: а нужно ли мне полагаться на вкус, и так ли он хорош?
- Наверное, нет. Главное – душевное спокойствие. А внешность всего лишь оболочка. Но я все равно не могу так. Я постоянно думаю о том, что мне предстоит прожить с одним человечком всю оставшуюся жизнь (я надеюсь, что это не так мало лет), что я буду видеть ее ненакрашенную, заплаканную, неумытую, мне становится жутко. Мне кажется, что ее внешность мне рано или поздно надоест.
- О, Господи, я думала ты выше всего это.
- Хотя с другой стороны, - продолжал я, - у Заболоцкого есть стих, называется «Некрасивая девочка», и в нем есть такие строчки:
«А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
Но ты уже ни капли не верила мне. Ты стала считать, что я не способен ценить в человеке прекрасное, что я не способен понять его и принять таким, какой он есть. На самом деле, меня интересовала только внутренняя красота человека, его внутренний мир, который невозможно увидеть глазами, его можно почувствовать сердцем. К любым отношениям я подходил всегда серьезно, не занимался сексом ради секса, мне хотелось найти ту, с которой я смогу находиться максимально долго. Чтобы не обжигаться, чтобы не разводиться, а для этого просто необходимы схожие мироощущения.
- Нет, все-таки все взаимосвязано, - продолжал я, - «В человеке все должно быть прекрасно» - так сказал Чехов.
Но ты перестала слушать меня уже минуту назад. Вскоре я смог понять твои слова. Ты разрушила все мои представления о вкусе и предпочтениях в выборе девушек. Больше у меня нет вкуса. Чем прекраснее человек внутри, тем нестандартнее он выглядит снаружи.
Мальчик забыл по дороге, зачем он бежал,
Но бежал, возмужал, а еще отрастил себе жало -
И стало бежать тяжелей.
Ты всегда переживала из-за учебы. Ты пролила, наверное, бочку слез из-за проблем, связанных с твоим образованием. Если не бочку, то десяток литров уж точно.
- Меня с детства приучили, - говорила ты, - что школа – это моя работа, поэтому я учусь так, будто работаю.
Ты часто жаловалась мне, что ты единственная в твоей группе, у кого нет папы, мамы, дедушки, бабушки – профессора медицины или преподавателя твоего вуза. Мне было сложно тебя понять, я учился только в творческих институтах, где, безусловно, тоже не мало, так называемых «блатных», но в моих группах не было таких студентов. Мне было невозможно понять, как можно покупать оценки за экзамены. Ты надеялась на собственные силы (иного выхода не было), учила ночами «Биху», «Фарму», «Гисту», проливала горькие слезы, а утром шла сдавать. Когда ты получила первую тройку, у тебя была жуткая депрессия, обиднее было оттого, что остальные (у которых, тети, дяди, родители) получили минимум 4, а ты единственная, которая знала в несколько раз больше многих, несла домой зачетку с оценкой «удовл» и жирной подписью возле нее. Эта тройка лишила тебя не только повышенной, но и обычной стипендии. Ты жаловалась, что предчувствовала, подобный результат, я утверждал, что ты сама настраивала себя на худший итог, ты обижалась, мы не разговаривали.
Каждый твой экзамен мы отмечали, как маленькую победу, традиционным вином и чем-нибудь еще, поскольку остановиться только на вине практически невозможно. Но наступало утро, и ты начинала готовиться к новому экзамену. Лишь по вечерам мы выползали из дома на небольшую прогулку, а после ты снова садилась за учебники. Я называл тебя ботаником. Сам я уже давно перестал усиленно готовиться к экзаменам. Учеба в литинституте доказала, что независимо от того, учу я какой-либо предмет или нет, я могу получить как 5, так и 2. Все зависит от воли случая и ловкости рук. Билет всегда можно поменять, можно наплести немного из другой области, а можно умело вывести педагога на беседу, чтобы он отвечал за тебя на экзаменационный вопрос, а тебе остается лишь соглашаться с ним и вовремя поддакивать.
О Бабе Гале у меня остались только светлые воспоминания. Утром ты улетала в Питер, поэтому ночью мы гуляли, и совершенно не хотелось расставаться. Был уже третий час, мы купили по бутылке пива, сели на лавочку. Почему-то было много народа, обычно, к этому времени на улицах пустынно, но не в тот раз. Вот тут-то и появилась баба Галя. На вид ей пятьдесят с хвостиком, пары передних зубов не было, запах перегара, словом, настоящая русская женщина, та, что и «войдет», и «остановит». Ни грамма стеснительности, , она тут же стала просить подкинуть ей немного денег, причем мы ее, почти не слушали, но она не отставала от нас, шутила, ругалась матом. Очень забавная, даже не знаю, почему из всех она выбрала именно нас. Может, лица светились от счастья, а может, потому что подобное притягивает подобное, а она была крайне оригинальна.
Она стала оправдываться, почему стоит перед нами пьяная, просит денег, говорила, ей сделали операцию, вырезали что-то, мол, врач ей сказал, что долго она не протянет, вот с горя она и «наколдырилась». Я протянул ей какую-то мелочь, но она не стала брать, а вместо этого стала рассказывать, что хорошо танцует, затем встала и начала кружиться, делать пируэты, мы смеялись, но это ее только раззадорило, она стала кружиться еще больше и все время спрашивала у меня:
- Что ты смеешься? Не веришь?
- Верю. – Улыбался я.
- Классно я танцую?
- Очень.
- Правда, классно?
- Правда! – С моего лица не сползала улыбка.
- Тебе понравилось?
- Понравилось.
- А чего ты тогда смеешься?
Я не знал, как от нее избавиться, хотелось провести последние минуты только с тобой, тебе нужно было уходить, а Баба Галя, словно чувствовала это и не собиралась нас покидать. Она вдруг вспомнила, что собиралась срезать розы с клумбы. Она пыталась сделать это раньше, но «проклятые менты» (козлы такие и прочее) были бдительны, как никогда, и мешали ей совершить административное правонарушение. Она попросила посмотреть меня, не видно ли стражей порядка, я сказал, что все в порядке, и она может смело отправляться на свершение своего злодеяния.
Мы облегченно вздохнули, увидев, что она стремительно отдаляется от нас. Я глотнул немного пива, начал что-то тебе рассказывать, но не успел докончить. Баба Галя возвращалась обратно довольная, как стадо бегемотов, пританцовывала на ходу, в руках несла розы. Она не прошла мимо, села на нашей лавочке, улыбнулась нам, демонстрируя свою добычу, сказала что-то неприличное в адрес милиции, порылась в карманах, вытащила ножницы и стала обрезать шипы. Одну розу она протянула тебе, сказала, что мы ей понравились, стала спрашивать наши имена, мы ответили.
- Очень приятно, - говорит, - а я – Баба Галя.
Тут появилась еще одна старушка, Баба Галя накинулась на нее, стала прогонять, но когда увидела, что та торгует пирожками, раздобрела и стала клянчить у меня деньги на пирожок, мол, с утра ничего не ела, и вообще, мне жалко что ли? Мне, конечно, не было жалко, если учесть, что Баба Галя и танцевала, и подарила тебе розу, и уже отказалась от предложенной ей мелочи. Я расплатился, сдачу Баба Галя забрала себе и допрашивала вторую старушку.
- Они у тебя вкусные?
- Никто не жаловался.
- Врешь, собака.
Бабушка не смогла найти достойного ответа на подобное замечание, потому промолчала.
- Мне тот, в котором мяса побольше. – Командовала Баба Галя.
Она сидела довольная, отломила пирожок, забрала твое пиво, отхлебнула немного и забыла про еду. Она стала предсказывать нам счастливое будущее. Сказала, что я люблю тебя уже много лет (хотя мы были знакомы меньше года), но сперва все не было так гладко, как хотелось, сказала, что и ты без ума от меня, что это видно по твоим глазам, что мы будем вместе долго и счастливо (ровно как пишут в сказках – и жили они долго и счастливо), пожелала нам еще массу всего и не переставала потягивать пиво. Мы не могли сдержать смеха, уж слишком забавно она выглядела, а она смотрела на меня с удивлением и повторяла:
- Что ты все время смеешься? Ну, что ты смеешься? Вот посмотришь еще.
И она ушла. Мне показалась, что она стала просить у кого-то еще мелочи и похмелиться, но я не уверен, что было именно так. Я смотрел на тебя, скоро ты должна была уехать. Мы еще не были вместе, но я думал, что когда ты вернешься, то все изменится, мне очень хотелось, чтобы все было по-другому. И вот твоя рука в моей руке, мы шли до твоего дома, а на лавочке остались лежать: пирожок – с одной стороны и роза без шипов – с другой.
Мы разбегаемся по делам,
Земля разбиватся пополам,
Вздох сожаления на губах,
Зависли в неправильных городах.
Совершенно не чувствую время. Кажется, что прошло полгода, открываю глаза, стрелки отмерили всего 4 минуты. Вижу, как Сэт выбегает на улицу. Может быть, он побежал встречать тебя? Может быть, ты вернулась? Бегу вслед за ним, открываю дверь, оказываюсь на улице. А там метель, ветер слепит снегом глаза. Сэта нигде нет. Но этого не может быть, я начинаю громко кричать, звать Сэта, отправляюсь на его поиски.
Видимо, он, как и ты, нашел выход из этого лабиринта. Нужно остановиться, необходимо вернуться назад и подумать о том, как быть дальше.
Я допиваю водку, чтобы согреться. Нужно логически мыслить, а это у меня всегда плохо получалось. Как же ты могла? Как же ты могла? Как же ты…? У группы «Мечтать» есть песня с таким названием. Вот оно все мое логическое мышление. Зачем? Почему? И мне вдруг становится так тошно, так больно. Я встаю и начинаю крушить все подряд. Все, что дарило мне минуты радости, все, что связывает меня с тобой, все, что так необходимо людям.
Как же нужно было привязать человека к себе, что одно расставание может начисто лишить его рассудка? Какой невиданной мне силой ты обладаешь? Что же все-таки это за явление любовь, которое я старательно отрицал долгие годы? Зачем она человеку, почему ее отсутствие так мучительно? «Мы разбегаемся» - Земфира, она, как всегда, все про тебя знает, почему она пишет про твою жизнь и мироощущение. Когда я вслушался в текст песни «Кто», мне показалась, что это ты в ней открывала меня.
Кто показал тебе звезды утра?
Кто научил тебя видеть ночью?
Кто, если не я?
Я, я всегда буду за тобой
Я, я всегда буду за тебя
Нет, не отпущу.
Ты сказала, что эта песня не обо мне. Так и оказалось. Ты не стала отпускать меня, ты ушла сама. И я продолжаю в бешенстве крушить наш «рай в шалаше».
Спасибо Земфире!
Эпилог
Позже, когда я приду в сознание, а от дома и камня на камне не останется, снег перестанет валить и исчезнет, будто его и в помине не было. Я выйду в море, лягу на самое дно и буду качаться под крыльями волн, медитируя подобно Будде, пока вода не втопчет меня в песок.
Утром следующего дня я буду лежать в кровати, в квартире обыкновенного панельного дома, с протекающим на кухне краном, с плохо побеленным потолком и отклеивающимися обоями, с пустым холодильником, в котором лежит майонез и сироп от кашля. Я вспомню тебя, но не со злобой, а с улыбкой. Я буду благодарен тебе, за то, что было с нами, за то, что ты была в моей жизни, за то, что никогда уже в ней не будешь, за все твои слова, за все скандалы, слезы, рисунки, песни, закаты, рассветы, море, за все….
Я, наконец, пойму, почему ты ушла, и где тебя, если понадобится, искать. Единственное, о чем я пожалею, что ты ушла не к кому-то, а от меня. Но я знаю, что ты искренне верила в то, что так будет лучше. Спасибо тебе. И, как бы это ни прозвучало банально, я люблю тебя.
Закрываю страницу прошлого, нужно начинать новую жизнь. На календаре 7 августа 2007 года, за окном пугливое, прячущееся за кулисами туч, солнце. Включаю Земфиру. Нужно вынести мусор.
сегодня был неважный день -
завтра будет хороший.
|